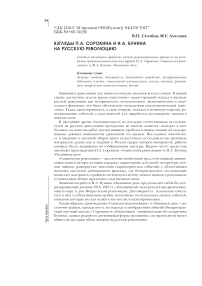Взгляды П.А. Сорокина и И.А. Бунина на русскую революцию
Автор: Столбов Вячеслав Павлович, Амелина Мария Григорьевна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: История и современность
Статья в выпуске: 3 (12), 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме логики революционного процесса на основании сравнительного анализа трудов П.А. Сорокина «Социология революции» и И.А. Бунина «Окаянные дни»
Базовые свободы, большевизм, девиантное поведение, деструктивные действия, власть, социальный иллюзионизм, массы, насилие, революция, творческая интеллигенция, толпа
Короткий адрес: https://sciup.org/14042488
IDR: 14042488 | УДК: [316.2
Текст научной статьи Взгляды П.А. Сорокина и И.А. Бунина на русскую революцию
Оценивать революции как социологические явления всегда сложно. В нашей стране достаточно долгое время существовал односторонний подход в оценках русской революции как исторического, политического, экономического и социального феномена, что было обусловлено господством коммунистической идеологии. Такая односторонность, в свою очередь, искажала истинную картину революционных событий, служа помехой для выработки достоверного научного знания о них.
В настоящее время тенденциозность во взглядах отечественных исследователей на русскую революцию преодолена во многих аспектах: выходит в свет большое количество работ, восполняющих пробелы в нашем знании об этом феномене, дающих возможности адекватной его оценки. Последнему способствует и введение в научный оборот ранее недоступных исследователям архивных материалов, равно как и издание в россии трудов авторов-эмигрантов, работы которых были запрещены по соображениям цензуры. Видное место среди них занимают произведения П.А. Сорокина «Социология революции» и И.А. Бунина «Окаянные дни».
«Социология революции» – достаточно необычный труд, сочетающий дневниковые записи автора, которые содержат характерные для такой литературы личные оценки, развернутые описания (характеристики событий), с объективным научным анализом дневникового фактажа, где беспристрастное исследование позволяет выстроить стройную логическую систему нового знания о революции, устанавливая чёткие причинно-следственные связи.
Знаменитая работа И.А. Бунина «Окаянные дни» представляет собой беллет-ризированный дневник 1918–1919 гг., обогащённый экскурсами в предреволюционную пору и дни Февральской революции. Достоверность изложения сочетается в нём с субъективизмом крайне негативных политических оценок событий, описание которых нельзя назвать научно систематизированным.
Terra Humana
Таким образом, произведения «Социология революции» и «Окаянные дни» – достаточно разные, прежде всего, по подходу к изображению событий (беспристрастный научный анализ у Сорокина и субъективная эмоциональная беллетристика Бунина), однако роднит их дневниковая форма изложения, где проявляется много общего во взглядах обоих авторов на русскую революцию.
В этой связи привлекает внимание одна из главных проблем произведений – проблема девиантного поведения больших масс людей в эпоху революции. На многочисленных примерах авторы показывают деструктивные действия толпы, которые становятся нормой публичного поведения. Доминантой выступает насилие, а социальной подоплёкой – бесконтрольность и вседозволенность. Психологической доминантой поведения людей толпы является вражда всех ко всем. Этот первобытный хаос в социальных отношениях весьма характерен для всякой революции, – приходят к единодушному выводу авторы обоих произведений. Таким образом, революция не социализирует, а биологизирует людей, «сокращая их базовые свободы» [14, с. 270] и ещё более ухудшая и без того нелёгкое экономическое и культурное положение социальных низов.
Как полагает П.А. Сорокин, основной предпосылкой революции выступило «увеличение подавленных базовых инстинктов большинства населения и невозможность даже минимального их удовлетворения» [14, с. 272–287]. Это позволяет оценивать революцию как своего рода социальную болезнь.
В тематике обоих произведений особое место занимает проблема интеллигентного человека, стоящего вне революционных событий, поскольку он не нашёл свою роль в них, а потому и не «вписался» в деструктивную толпу, и, в конечном итоге, не понял и не принял революцию в целом. Такая ситуация порождает у мыслящего интеллигента не только ощущение бессилия изменить что-либо в положительную сторону (наряду с горячим желанием позитивного действия), но и известное разочарование в возможностях человеческого интеллекта вообще. Массовые революционные безобразия являются для одиночек– интеллектуалов причиной длительной фрустрации, которая может привести к психологическому срыву.
Прослеживается общность взглядов обоих авторов и в оценках политических лидеров революционной эпохи, их влияния на поведение толпы. При всей неоднозначности, сложности и категоричности отношения и революционным вожакам П.А. Сорокин и И.А. Бунин единодушны в своём выводе о том, что большинство лидеров используют в своём влиянии на массы аморальные приёмы – они поощряют насилие, преступность, жестокость, деморализующие не только жертвы, но и самих насильников.
Следует отметить, что П.А. Сорокин не ограничился в своём научном творчестве указанной работой. Его перу принадлежат произведения «россия после НЭПа» [12], «Современное состояние россии» [13], «Страницы из русского дневника» [15], где он проводит анализ событий революции с позиций просветительского гуманизма. Однако на страницах его «Дальней дороги»[10] и особенно в «Социологии революции» и характер его оценок разительно меняется. Обобщая опыт русской революции, Сорокин выделяет «три типичные фазы» во всяком революционном развитии. Первая, «лучезарная», фаза быстротечна. Для неё характерна эйфория масс «по поводу освобождения от гнёта старого режима» в сочетании с надеждами на проведение справедливых социальных реформ, «которые обещают все революции». В свою очередь, победившая власть, по видимости, «гуманна и великодушна», но не по своей природе, а из-за первоначального «бессилия». В этом периоде революционная власть действует «мягко и нерешительно». Но в то же время «в человеке начинает просыпаться звериное начало» [11, с. 541] (как во властных структурах, так и у человека толпы – В.С., М.А .), которое в полной мере проявляется во втором периоде революции – в «разрушительной её фазе». революционный ураган «безжалостно выкорчёвывает не только устаревшие, но и полнокровные институты, он убивает не только паразитарную старорежимную властвующую элиту, но также и множество твор-
Общество
ческих личностей и групп. На этой стадии вступают в действие революционные методы – «насилие и террор». Весьма примечательно, что здесь Сорокин, хотя и вскользь, отмечает возможность тотального уничтожения нации в этом периоде. Но коль скоро этого удаётся избежать, наступает третья, «конструктивная», фаза революции, когда во время строительства нового порядка «оживают и восстанавливаются» старые жизнеспособные социальные силы, институты, ценности. «Таким образом, – делает окончательный вывод Сорокин, – послереволюционный порядок обычно представляет собой смешение… нового образа жизни со старыми… продуктивными порядками дореволюционного времени» [11, с. 541].
В теоретическом плане с приведенными соображениями трудно не согласиться. «Три фазы» действительно просматриваются в любой великой революции, если она проходит полный цикл своего развития. Но попытаемся применить эту абстрактно-теоретическую схему к конкретной ситуации – русской революции 1917 г. По мнению П.А. Сорокина, ее первую фазу нужно отсчитывать с событий февраля–марта, в результате которых к власти пришло Временное правительство, большевистский Октябрьский переворот знаменует наступление второго этапа, и, наконец, начало третьей фазы совпадает с введением НЭПа.
Однако такая периодизация вызывает возражения. Из истории великих революций, прошедших полный цикл своего развития, мы знаем, что переход от второй фазы к третьей обязательно связан с победой контрреволюции и более или менее длительным периодом реставрации, коим НЭП, конечно же, не является. Вместе с тем, П.А. Сорокин чутко уловил подлинный парадокс русской революции, парадокс столь же знаменательный, сколь и актуальный. «История, – пишет он, – поистине сыграла злую шутку с коммунистами. Она заставила их собственными руками вводить снова капитализм, так усердно разрушавшийся ими. И они увидели, наконец, что коммунизм привел к полному развалу всей хозяйственной жизни, и им стало понятно, что без капитализма нет спасения» [14, c. 34].
У П. Сорокина мы находим, по сути дела, три варианта будущего развития россии. Первый: власть «еще несколько лет просуществует, но при условии дальнейшей эволюции в сторону капитализма и правового строя. Иначе – она будет сброшена насильственно», – и второй: «Если эта революция будет – в конце ее власть ожидает тоже падение, но более мягкое» [11, с. 548]. Оба эти сценария предусматривали крах большевизма. Что касается третьего варианта, когда «капитализм» и «коммунизм» попеременно сменяют друг друга, – то его и сам П.А. Сорокин считал, по-видимому, лишь теоретической моделью, не осуществимой на практике.
Terra Humana
В книге «Социология революции» он доказывает, что революции и сопутствующие им войны, как правило, усиливают и ускоряют дезинтеграцию общества. Ценности и идеалы, воспроизводимые в революционный период, чаще всего иллюзорны. Их анализ позволил социологу сформулировать закон «социального иллюзионизма». Для доказательства действенности и жизненности этого закона он сравнивает ряд лозунгов, выдвинутых Февральской и Октябрьской революциями в россии 1917 г., с действительностью, наступившей через два-три года. Например, ставилась задача ликвидировать, разрушить пирамиду социального неравенства, но вместо одного неравенства появилось другое – у людей не стало даже формальных прав, включая право на жизнь. Обещали всем хлеба – получили голод и вымирание населения. Хотели и обещали уничтожить капитализм – разрушили средства производства и обращения.
Как теперь выясняется, закон социального иллюзионизма активно «работает» в странах, оторванных от достижений мировой цивилизации в области свободы и демократии.
Социолог отмечает, что революции, несмотря на побуждения самих революционеров, изменяют поведение людей не в лучшую сторону, культивируя вражду, ненависть, злобу, обман, разрушение. Освободиться от этих явлений никому не дано, они неизбежны, ибо революции биологизируют и даже криминализируют поведение людей. Они приводят к установлению авторитарного режима, который держится на культивировании образа врага и поддержании дефицита средств существования населения. П.А. Сорокин прогнозировал падение власти коммунистов в россии в связи с прекращением войны и ростом «сытости», однако ошибся в сроках, полагая, что это произойдет достаточно быстро.
Еще один закон, сформулированный П.А. Сорокиным для общества кризисного периода, был назван им законом позитивной и негативной поляризации. В соответствии с этим законом, люди во время кризисов ведут себя неоднозначно: одна часть общества становится более склонной к социальной аномии (негативный полюс), другая – к моральному совершенствованию и религиозности (позитивный полюс). Индивиды могут тяготеть либо к одному, либо к другому полюсу. Это значит, что в обществе может наблюдаться рост ожесточения, криминальных деяний, эгоизма, самоубийств, покорности судьбе, равно как и активизация творческих усилий, альтруизма, стремления жить по моральным заповедям не-институированной религиозности и т.д.
реформы общества в условиях его кризиса должны исходить, по мнению П.А. Сорокина, из интегральной сущности человека и ни в коем случае не препятствовать его базовым инстинктам. Для этого, как минимум, необходимо, чтобы: а) сущности человека соответствовала форма производства и распределения благ; б) государство, в конечном счете, стимулировало творческую активность населения; в) утвердился морально-правовой порядок, единый как для власти, так и для населения. Социолог утверждал, в связи с этим, что в форму производства должна быть заложена постоянно действующая пружина, именуемая «личным интересом» работника.
Проблема социологии революции в теоретическом наследии П.А. Сорокина вызывает интерес у современных социологов-теоретиков – исследователей этого феномена. [1,2, 6–8]
Конец XIX – начало ХХ вв. стали временем подготовки того глобального перелома в истории россии, содержанием которого явились события трех русских революций и первая мировая война. Без сомнения, каждое из этих событий оказало огромное влияние на творческую интеллигенцию, но только Октябрьская революция, в духовном смысле, переломила судьбы многих русских людей, в том числе и представителей творческой интеллигенции. Одним из них был И.А. Бунин. С особой остротой и противоречивостью проблема россии и революции была поставлена в отечественной литературе в начале ХХ в.
рубеж XIX–XX вв знаменует один из самых серьезных кризисов художе-ствен-ного сознания, которые известны истории русской и мировой литературы. Для этого периода была характерна острота идейной и эстетической борьбы, резкое углубление противоречий во взглядах на искусство и его назначение. Не менее отчетлива и другая особенность литературы рубежа веков – ее переходный, пограничный, характер. Ощущая свою прочную связь с искусством предыдущего столетия, широко используя мотивы, темы, образы прошлого, либо, напротив, вступая в полемику с ним и отталкиваясь от предлагаемых им решений, литература рубежа веков в каких-то важных своих тенденциях продолжала жить и в творчестве художников, переживших революционные события. Ярко эта тенденция проявила себя в творчестве И.А. Бунина, у которого темы, проблемы, образы
Общество
русской предреволюционной жизни продолжали составлять главное в самом содержании его творчества.
Октябрьская революция – часть русской истории, феномен русской культуры. Здесь слиты воедино и триумф, и драма народа. русская революция воспринималась большевиками как закономерный итог исторического развития страны, российского общества, как естественное разрешение противоречий действительности. Начавшись под лозунгом всечеловеческих и общероссийских ценностей, она, как многие революции, начала корчиться в судорогах насилия, террора, диктатуры.
Видимо, разобраться в так называемой «новой эре» – эре отказа от всечеловеческих ценностей в пользу классовой борьбы, разобраться в «рождении нового человека» было под силу только таким личностям, которые оказались способны сопротивляться идеологическому прессу. Таким человеком являлся И.А. Бунин.
революцию И.А. Бунин встретил в возрасте сорока семи лет, когда житейский и духовный опыт человека и интерес к реальной жизни находятся в гармоничном сочетании, делающем личность способной максимально глубоко увидеть и оценить сущность происходящих событий. Бунинские дневники, посвященные революции и Гражданской войне, пожалуй, – одни из самых глубоких документов этой эпохи.
Terra Humana
В произведении «Окаянные дни» И.А. Бунин выразил свое резко отрицательное отношение к революции, свершившейся в россии в октябре 1917 г. Это даже не дневник в строгом смысле слова, поскольку писатель восстанавливал записи по памяти, художественно их обрабатывая. Он воспринял большевистский переворот как разрыв исторического времени. Сам Бунин ощущал себя последним, кто может чувствовать «это прошлое время наших отцов и дедов». В «Окаянных днях» он хотел столкнуть осеннюю, увядающую красоту прежнего и трагическую бесформенность нынешнего времени. разверзшаяся геенна революции для писателя была не только поражением демократии и торжеством тирании, но и, в первую очередь, невосполнимой утратой строя и лада жизни, победой воинствующей бесформенности: «В том-то и дело, что всякий русский бунт (и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего все старо на руси и сколь она жаждет прежде всего бесформенности» [9, c. 196]. «Окаянные дни» окрашены грустью предстоящего расставания с родиной. Глядя на осиротевший одесский порт, автор вспоминает свой отъезд отсюда в свадебное путешествие в Палестину и с горечью восклицает: «Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, – всю эту мощь, богатство, счастье...» [9, c. 105] За распадом российской дореволюционной жизни Бунин угадывает распад мировой гармонии. Единственное утешение он видит в религии. И неслучайно «Окаянные дни» завершаются следующими словами: «Часто заходим в церковь, и всякий раз восторгом до слез охватывает пение, поклоны священнослужителей, каждение, все это благолепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается всякое земное страдание. И подумать только, что прежде люди той среды, к которой и я отчасти принадлежал, бывали в церкви только на похоронах!.. И в церкви была все время одна мысль, одна мечта: выйти на паперть покурить. А покойник? Боже, до чего не было никакой связи между всей его прошлой жизнью и этими погребальными молитвами, этим венчиком на костяном лимонном лбу!» [9, c. 205]. Писатель корил себя и других за прошлое равнодушие к делам религии, полагая, что благодаря этому к моменту революции пуста была народная душа. Глубоко символичным представлялось
Бунину, что русские интеллигенты бывали в церкви до революции только на похоронах. Вот и пришлось в результате хоронить российскую империю со всей ее многовековой культурой! Автор «Окаянных дней» очень верно заметил: «Страшно сказать, но правда; не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была». [5, с. 63] Слишком многим в россии протест против социальной несправедливости был нужен только ради самого протеста – только затем, чтобы не скучно было жить.
Крайне скептически относился И.А. Бунин и к творчеству тех писателей, что в той или иной степени приняли революцию. В «Окаянных днях» он с излишней категоричностью утверждал: «русская литература развращена за последние десятилетия необыкновенно. Улица, толпа начала играть очень большую роль. Всё-то, и литература особенно, – выходит на улицу, связывается с нею и подпадает под ее влияние. И улица развращает, нервирует уже хотя бы по одному тому, что она страшно неумеренна в своих хвалах, если ей угождают. В русской литературе теперь только «гении». Изумительный урожай! Гений Брюсов, гений Горький, гений Игорь Северянин, Блок, Белый. Как тут быть спокойным, когда так легко и быстро можно выскочить в гении? И всякий норовит плечом пробиться вперед, ошеломить, обратить на себя внимание» [9, с. 120]. Писатель был убежден, что увлечение общественно-политической жизнью пагубно сказывается на эстетической стороне творчества. революция, по его мнению, способствовала дальнейшему разрушению русской литературы. Начало же этого процесса Бунин связывал с декадентскими и модернистскими течениями конца XIX – начала XX века и считал далеко не случайным, что писатели соответствующего направления оказались в революционном лагере.
Так каково же отношение Бунина к революции в целом? В целом «революционные времена не милостивы: тут бьют и плакать не велят». Писатель размышлял о сути революции, сопоставляя эти события в разных странах в различное время, и пришел к выводу о том, что они «все одинаковы, все эти революции!». Одинаковы в своем стремлении создать бездну новых административных учреждений, открыть водопад декретов, циркуляров, увеличить число комиссаров – «непременно почему-то комиссаров» – учредить многочисленные комитеты, союзы, партии.
И.А. Бунину грустно замечать, что революции создают даже новый язык, «сплошь состоящий из высокопарнейших восклицаний вперемешку с самой площадной бранью по адресу грязных остатков издыхающей тирании» [4, с. 67].
Пожалуй, писатель применил самое точное определение сути революций: «одна из самых отличительных черт революции – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана» . [4, с. 68]
Для человека, далекого от политики, становятся необъяснимыми многие обычные еще вчера явления жизни, он озлобляется, замыкается в своем мирке, культивирует в себе явные пороки. Все это Бунин выразил одной фразой: «В человеке просыпается обезьяна».
Как видим, человек в дни революции действительно входит в новый мир, но по Бунину, – это не «светлое завтра», а палеолит.
По мнению И.А. Бунина, не было необходимости преобразовывать жизнь, «ибо, несмотря на все недостатки, россия цвела, росла, со сказочной быстротой развивалась и видоизменялась во всех отношениях... Была россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населенный огромным и во всех смыслах могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поко-
Общество
лений, освященный богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культурою. Что же с ним сделали?» [3].
С болью и горечью Бунин констатирует, что свержение старого режима было осуществлено «ужасающе», над страной поднято интернациональное знамя, «то есть претендующее быть знаменем всех наций и дать миру взамен синайских скрижалей и Нагорной проповеди, взамен древних божеских уставов, нечто новое и дьявольское. Основы разрушены, врата закрыты и лампады погашены. Но без этих лампад не бывать русской земле – и нельзя преступно служить ее тьме» [3].
В целом, труды П.А. Сорокина и И.А. Бунина не только формируют новый взгляд на революцию, но выступают источником для осмысления социальных действий, представлений о социокультурном процессе в россии в начале ХХ века.
Список литературы Взгляды П.А. Сорокина и И.А. Бунина на русскую революцию
- Акулич М.М. Учение П. Сорокина о революции//Питирим Александрович Сорокин и современные проблемы социологии. Материалы научной конференции -Первых Санкт-Петербургских социологических чтений. С.-Петербург, 16-17 апреля 2009 г., т. II. -СПб., 2009. -C. 218-220.
- Алешина Е.А. Социология революции//Питирим Александрович Сорокин и современные проблемы социологии. Материалы научной конференции -Первых Санкт-Петербургских социологических чтений. С.-Петербург, 16-17 апреля 2009 г., т. II. -СПб., 2009. -C. 220-222.
- Бунин И. Миссия русской эмиграции. Речь, произнесенная в Париже 16 февраля 1924 года//http://bunin.niv.ru/bunin/bio/missiya-emigracii.htm
- Бунин И. Миссия русской эмиграции//Слово. -1990, № 10.
- Бунин И. Под серпом и молотом//Слово. -1990, № 10.
- Васильева Л.Н. Социология революции П.А. Сорокина и современные подходы к сути революционных процессов//Питирим Александрович Сорокин и современные проблемы социологии. Материалы научной конференции -Первых Санкт-Петербургских социологических чтений. С.-Петербург, 16-17 апреля 2009 г., т. II. -СПб., 2009. -C. 48-50.
- Кононов И.Ф. Революция и общественное пространство в теоретическом наследии П.А. Сорокина//Питирим Александрович Сорокин и современные проблемы социологии. Материалы научной конференции -Первых Санкт-Петербургских социологических чтений. С.-Петербург, 16-17 апреля 2009 г., т. II. -СПб., 2009. -C. 250-252.
- Кравченко С.А. Интегральная социология Питирима Сорокина. Социология революции. «Биологизирующая роль революции»//Социология. Учебник. -М.: Экзамен. 2004. -С. 403-408.
- Русские писатели -лауреаты Нобелевской премии. Иван Бунин. Избранное. Окаянные дни/Сост. А.Н.Архангельский. -М.: Мол. гвардия, 1991. -С. 60-205.
- Сорокин П.А. Дальняя дорога. Автобиография. М.: Терра, 1992. -С. 83-85.
- Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М: Наука, 1994.-С. 540-548.
- Сорокин П.А. Россия после НЭПа (к 5-летнему юбилею Октябрьской революции)//Вестник РАН. -1991, № 2. -C. 125-137; 1991, № 3. -С. 69-82.
- Сорокин П.А. Современное состояние России/Публ. В.В. Сапова, предисл. В. Шубкина//Новый мир. -1992, № 2.-С. 181-203; 1992, № 3. -С. 161-191.
- Сорокин П.А. Социология революции//Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. -М.: Политиздат, 1992. -С. 266-294.
- Сорокин П.А.Страницы из русского дневника//Рубеж: Альманах социальных исследований. -Сыктывкар, 1991. -С. 57-73; 1992. -С. 3-18.
- Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М: Наука, 1994.-С. 540-548.
- Сорокин П.А. Россия после НЭПа (к 5-летнему юбилею Октябрьской революции)//Вестник РАН. -1991, № 2. -C. 125-137; 1991, № 3. -С. 69-82.
- Сорокин П.А. Современное состояние России/Публ. В.В. Сапова, предисл. В. Шубкина//Новый мир. -1992, № 2.-С. 181-203; 1992, № 3. -С. 161-191.
- Сорокин П.А. Социология революции//Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. -М.: Политиздат, 1992. -С. 266-294.
- Сорокин П.А.Страницы из русского дневника//Рубеж: Альманах социальных исследований. -Сыктывкар, 1991. -С. 57-73; 1992. -С. 3-18.