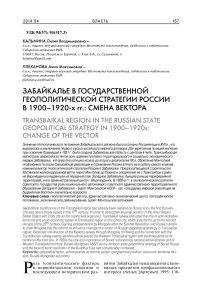Забайкалье в государственной геополитической стратегии России в 1900-1920-х гг.: смена вектора
Автор: Кальмина Лилия Владимировна, Плеханова Анна Максимовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 4, 2014 года.
Бесплатный доступ
Значение геополитического положения Забайкальского региона было осознано Россией еще в XVII в., что выразилось в заключении первого русско-китайского мирного договора. Для укрепления позиций империи при освоении Приамурья в 1851 г. была создана Забайкальская область с центром в Чите. Транссибирская магистраль закрепила за Читой роль административно-территориального и социально-экономического лидера Забайкалья, которую она успешно играла до второго десятилетия ХХ в. Обретение Монголией независимости после Синьхайской революции и стремление России втянуть ее в орбиту своего влияния изменили вектор геополитической стратегии России в Забайкалье. Предполагающееся строительство Кяхтинской железнодорожной ветки через Монголию до Пекина и соединение ее с Транссибом в районе Верхнеудинска выдвинули на передний план Западное Забайкалье, бывшее раньше периферийной территорией, и его административный центр г. Верхнеудинск. В 1920-е гг. в геополитической стратегии Советского государства роль национального автономного советского административно-территориального образования Западного Забайкалья - Бурят-Монгольской АССР - как «плацдарма мировой революции на буддийском Востоке» значительно возросла.
Геополитический фактор, административно-экономический центр, географическое положение, экономическое районирование, бурят-монгольская автономия
Короткий адрес: https://sciup.org/170167423
IDR: 170167423
Текст научной статьи Забайкалье в государственной геополитической стратегии России в 1900-1920-х гг.: смена вектора
Роль геополитического фактора в первоначальном освоении и последующем историческом раз- витии Забайкалья неоднократно становилась предметом профессионального интереса ученых [Артемьев 1995: 136-
137; Мерцалов 2008: 26-33]. Начиная с XVII в. и до середины XIX в. Забайкалье рассматривалось как целостное пространство, как «историческая площадка» для утверждения России в Приамурье. Территория, из-за незначительности демографического ресурса быстро исчерпавшая в этом плане свой потенциал, в середине XIX в. обрела второе дыхание. Создание в 1851 г. Забайкальской области стало результатом реализации государственного проекта, вызванного к жизни геополитическими реалиями, актуализировавшими историческую необходимость присоединения Приамурья. Решение данной задачи потребовало перестройки административно-территориальной и социально-экономическойорганизации Забайкальского региона с одновременным возведением Читы в ранг областного центра. Только этот населенный пункт в силу своего выгодного географического положения – в начале Амурского бассейна – мог обеспечить функционирование всей территории за Байкалом как единого целого [Мерцалов 2008: 29; Мерцалов 2012: 3]. Выполнив историческую миссию формирования плацдарма для утверждения Российской империи в Приамурье, Забайкалье заметно замедлило социально-экономическое развитие в сравнении с «передним краем», для которого оно обеспечило надежный тыл. Приамурский генерал-губернатор Н. Гродеков, проехав в 1899 г. с инспекционной поездкой Забайкальскую область, с сожалением констатировал, что она далеко отстала «на пути культурного самосовершенствования и развития не только от Европы, но даже и от ближайшего своего соседа – Приамурья»1.
Транссибирская магистраль вдохнула новую жизнь в Забайкальский регион, одновременно перераспределив функции городов, претендовавших на роль административно-экономических центров отдельных территорий Забайкалья: «убила Кяхту и сделала Верхнеудинск независимым от Иркутска торговым центром, к которому тяготели забайкальские города» [Воробьев 1959: 88]. Оказавшийся в стороне от магистрали Нерчинск, бывший неформальным лидером Восточного Забайкалья задолго до обретения Читой статуса столицы области, также стал стремительно утрачивать свое экономическое значение. Выгодное географическое положение Верхнеудинска – на пересечении железнодорожной магистрали, судоходной Селенги и трактов на Кяхту и Баргузин, в центре густонаселенного и хлебородного района – позволило ему стать важным транспортным узлом и крупным торгово-распределительным центром, снабжавшим Западное Забайкалье всеми привозными товарами. Однако, несмотря на возросшую экономическую роль, в «табели о рангах» сибирских городов он оставался городом «второго плана». «Угнетенный» ранее Иркутском и Кяхтой, которые стягивали на себя китайскую и значительную часть внутренней торговли Западного Забайкалья, он, в свою очередь, оказался «зажатым» между Иркутском и стремительно прогрессирующей Читой, имевшей, по прогнозам современников, большое будущее как географический и административный центр области [Солдатов 1912: 9].
После Русско-японской войны, наглядно продемонстрировавшей слабость экономического развития восточных рубежей империи и потребовавшей решительных действий по их укреплению, геополитическая роль Забайкалья как связующего звена между Монголией, Китаем, российским Дальним Востоком и центральной Россией, а также Читы как его административного центра обещала еще более возрасти. Однако последующие события сместили акценты в определении значения западной и восточной частей Забайкалья во внешнеполитической игре империи.
Синьхайская революция и объявление Монголией независимости вызвали большой интерес в России, осознававшей важность Монголии для реализации российских политических и экономических интересов на Дальнем Востоке [Старцев 2003: 92]. Для усиления позиций России во Внутренней Азии предполагалось интенсифицировать железнодорожное строительство, в частности провести Кяхтинскую ветку железной дороги, которая у Верхнеудинска должна была соединиться с Забайкальской железной дорогой с перспективой про- ведения ее через Монголию до Пекина1. Проведение ветки позволяло не только обеспечить успешную конкуренцию с другими странами в экспорте в Монголию российской мануфактуры, но и полностью вытеснить с монгольского рынка мануфактуру нероссийского производства и в дальнейшем установить монополию на ввоз металлоизделий и домашней утвари, а также способствовать прочному обоснованию там русских золотопромышленников. Кяхтинская дорога также рассматривалась как звено, соединяющее Россию с монгольским рынком. С этого момента Верхнеудинск, будучи предполагаемым местом стыковки Кяхтинской ветки с Транссибом, стал теснить Читу, на протяжении нескольких десятков лет служившую организатором забайкальского экономического и геополитического пространства. Об этом говорит и итог 10-летней борьбы уездного Верхнеудинска и административного центра области Читы за дислокацию железнодорожных мастерских: вопрос, который при его кажущейся «местечко-вости» был настолько принципиален, что рассматривался в Государственной думе. Вряд ли в обоих городах подозревали, что за их внутренним прагматическим интересом удержания массового платежеспособного потребителя стоит сложная комбинация создания самодержавным государством опорных пунктов для установления своего влияния во внутриазиатском пространстве. В попытке переиграть соперника городские власти Верхнеудинска подкупили членов Инженерного совета для представления депутатам Думы желаемого заключения2. Однако им не стоило так тратиться: и без этих затрат решение было бы принято в его пользу. Было очевидно, что из-за относительной близости монгольской границы Верхнеудинск представляет собой более удобное место для строительства машиностроительных и вагоностроительных заводов, которые в перспективе будут обслуживать проектируемые южные железнодорожные ветки. В то же время стало ясно, что концентрация торгово-промышленных предприятий в Чите была следствием дислокации здесь Управления по постройке западного участка Амурской железной дороги, и с окончанием строительства и переводом Управления из Читы город ожидает падение экономического влияния3.
Таким образом, во втором десятилетии ХХ в. изменился вектор геополитической стратегии самодержавия в регионе. Западное Забайкалье, бывшее ранее периферийной территорией, вышло на передний план и стало позиционироваться как центр внешнеполитической игры, предполагавшей утверждение России в Монголии.
Практическое воплощение геополитических замыслов империи по вовлечению Монголии в орбиту своего влияния посредством превращения Западного Забайкалья в самодостаточный в экономическом плане регион было прервано революционными событиями 1917 г. После завершения Гражданской войны и иностранной интервенции молодому Советскому государству, оказавшемуся в состоянии фактической блокады со стороны стран Запада и конфронтации со всеми мировыми державами, необходимо было при помощи кардинальных мер решать проблему обеспечения защиты границ, особенно в связи с высокой вероятностью новых военных конфликтов. Именно поэтому укрепление восточных районов страны на основе форсированного экономического роста вновь стало одной из приоритетных задач новой советской власти. В результате планы самодержавия по созданию в Западном Забайкалье зоны экономического роста были положены в основу развития молодой советской Бурят-Монгольской республики, образованной в мае 1923 г. Восстановление разрушенного в годы социальных катаклизмов хозяйства и последующий подъем экономики республики должны были, демонстрируя народам Востока успехи социалистического строительства, вовлекать их в орбиту советского экономического, политического и идеологического влияния.
Особое геополитическое положение республики позволило ей сохранить статус национальной автономии, когда в центре стал разрабатываться вопрос о новом экономическом районировании и включении БМАССР совместно с Иркутской и Забайкальской губерниями в состав Ленско-Байкальской области.
Руководство республики, выступив категорически против вхождения республики в состав проектируемой области на правах округа, выдвинуло, наряду с аргументами экономического характера, также и геополитические. Наиболее обстоятельно данная точка зрения была сформулирована заместителем председателя Госплана республики Н.Н. Козьминым: «Республика имеет определенное политическое задание и положение в Союзе… она не может играть роль лишь материала для тех или иных построений. Повернутая политически лицом к Монголии, входящей в сферу жизни советских республик, и Центральной Азии, куда протягиваются нити весьма реальных отношений, вплоть до окраин Тибета, она является существенным элементом государственной жизни Союза» [Козьмин 1924: 3-4]. Стремясь найти поддержку в центре, руководство республики обратилось за помощью в Народный комиссариат иностранных дел СССР, подчеркивая особую геополитическую роль БМАССР в Центрально-Азиатском регионе. Советская внешнеполитическая доктрина заключалась в экспорте революции в страны Центральной Азии и дальнейшем присоединении их, в случае успеха, к будущей Всемирной республике Советов. Бурят-Монгольской АССР в этой политике отводилась роль «форпоста социализма» и «плацдарма мировой революции на буддийском Востоке», поскольку считалось возможным использовать национальный фактор – общность языка, истории, религии и культуры, а также наличие стремления к единению монголоязычных народов, в т.ч. бурят, для осуществления задач мировой революции. Монголия же рассматривалась как трамплин для экспорта революции в Китай и далее по всей Азии.
Поддержка НКИД СССР руководства Бурят-Монгольской республики предопределила судьбу Ленско-Байкальской области. 12 июня 1925 г. нарком иностранных дел Г.В. Чичерин направил письмо И.В. Сталину, в котором доказывал, что создание бурят-монгольской государственности в пределах самостоятельной Советской республики имело целью позитивное влияние СССР на народы Дальнего Востока. По мнению наркома, ограничение национальной автономии неизбежно произвело бы отрицательное впечатление на народы и правительства Монголии, Тибета и др. и сорвало бы наметившиеся интенсивные культурно-хозяйственные связи Бурят-Монгольской Республики с Монгольской Республикой. Наркомат иностранных дел выступил категорически против вхождения Бурят-Монгольской Республики в состав Ленско-Байкальской области и счел политически необходимым сохранить за БМАССР статус автономной республики с учетом того громадного значения, какое имел факт ее существования для всего буддийского Востока1.
Точка зрения наркомата иностранных дел стала решающей при отказе от идеи создания Ленско-Байкальской области. Интересы внешней политики, вытекавшие из актуальных на тот момент целей «мировой революции» на Востоке и в Центральной Азии, и особая геополитическая роль, отводимая в ней Бурят-Монгольской автономии, оказались выше.
Таким образом, реализация геополитической стратегии самодержавия в Забайкалье, изменившей свой вектор во втором десятилетии ХХ в., была возобновлена Советским государством в 1920-х гг. И если в дореволюционный период в основе данной стратегии лежали экономические и политические мотивы, то в советское время она дополнительно приобрела идеологическое звучание, актуальное для воплощения большевистской идеи мировой революции.
Исследование проведено в рамках программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре», проект № 33.2.2 «Экономическая модернизация Западного Забайкалья (1880–1930-е гг.)».