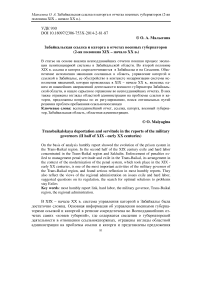Забайкальская ссылка и каторга в отчетах военных губернаторов (2-ая половина 19 - начало 20 в.)
Автор: Малыгина Ольга Анатольевна
Статья в выпуске: 2, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе анализа всеподданнейших отчетов показан процесс эволюции пенитенциарной системы в Забайкальской области. Во второй половине 19 в. ссылка и каторга сосредоточиваются в Забайкалье и на Сахалине. Обеспечение исполнения наказания сосланных в область, управление каторгой и ссылкой в Забайкалье, ее обустройство в контексте модернизации системы исполнения наказаний, которая проводилась в 19 - начале 20 в., являлись одним из важнейших направлений деятельности военного губернатора Забайкальской области, и нашло серьезное отражение во всеподданнейших отчетах. В них также отражены взгляды областной администрации на проблемы ссылки и каторги, предложены вопросы по ее регулированию, поиск оптимальных путей решения проблем пребывания ссыльнопоселенцев
Всеподданнейший отчет, ссылка, каторга, военный губернатор, забайкальская область, областная администрация
Короткий адрес: https://sciup.org/148317364
IDR: 148317364 | УДК: 930 | DOI: 10.18097/2306-753X-2014-2-81-87
Текст научной статьи Забайкальская ссылка и каторга в отчетах военных губернаторов (2-ая половина 19 - начало 20 в.)
В XIX – начале XX в. система управления каторгой в Забайкалье была достаточно сложна. Основная информация об управлении военными губернаторами ссылкой и каторгой в регионе сосредоточена во Всеподданнейших отчетах самих «хозяев губерний», где содержатся сведения о губернаторской деятельности в отношении ссыльнокаторжных, отражены взгляды областной администрации на проблемы ссылки и каторги и представлены предложения по вопросам ее регулирования. Информация в отчете подавалась в четко регламентированной форме.
Включение военного губернатора в процесс надзора за ссыльными начиналось с момента их этапирования. Как указывалось в отчете военного губернатора П.И. Запольского, контроль за сопровождением ссыльнокаторжных по территории Забайкальской области и «наблюдение за неисправностью сих (этапных – О.М. ) помещений и за благовременное исправление повреждений составляет одну из главных забот местного Начальства» [1, Л. 12-13.]. В своем первом отчете за 1851 г. П.И. Запольский так описывал этапные помещения: «По тракту от Байкала озера до Нерчинских горных заводов как окончательных пунктов в сей части Сибири, ссылки преступников для проходящих арестантских партий, в некоторых местах в недальнем друг от друга расстоянии устроены особые этапы и полуэтапы. Здесь помещаются арестанты на время своих ночлегов и расторгов в пути» [1, Л. 12-13.]. Должное содержание этапных помещений также было прямой обязанностью высшей администрации области, которая докладывала об их состоянии во Всеподданнейших отчетах. Однако в отчетах их состояние оценивалось диаметрально противоположными формулировками: от «жалоб на неудовлетворительное помещение этапов до Областного Начальства не доходило»[2, Л. 13] (в черновом варианте отчета за 1856 г. эта фраза зачеркнута [3, Л. 372], но в отосланный в Петербург чистовой вариант она вошла) до «этапные здания требуют капитальных исправлений» -в отчете за 1876 г. [4, Л. 2 об.]
В воспоминаниях ссыльных показана картина, сильно отличающаяся от нарисованной Всеподданнейшими отчетами военных губернаторов Забайкальской области и не позволяющая полностью исключить отсутствие жалоб на «неудовлетворительное помещение этапов». Ссыльный революционер-народник Я.В. Стефанович в 1890 г. так описывал забайкальские этапы: «… На первый взгляд, этапы сделаны добротно. На самом деле в них холодно и сыро, печи не дают тепла. Картину дополняет огромное количество паразитов, от которых нет спасения, и полная антисанитария отхожих мест. В таких условиях ссыльным приходится существовать по нескольку дней» [5, С. 64]. Ссыльный участник польского освободительного восстания 1863 - 1864 гг. этнограф-сибириевед и писатель Вацлав Серошевский в 1908 г. дал следующую характеристику этапам и полуэтапам: «Люди спали не только на нарах, но и на полу так тесно, что нельзя было пошевелиться и пройти. Им не полагалось ни подушек, ни одеяла. Укрываются арестанты теми же тулупами и халатами, в которых ходят днем. Полуэтапы представляли собой какое-то подобие ада…» [6, С. 209].
После прибытия ссыльных и их семей в область в задачи военного губернатора и областной администрации входила организация их содержания в соответствии с законом. Рост потока ссыльных порождал серьезные трудности в их размещении и управлении, поэтому в каждой каторжной тюрьме администрация нередко устанавливала свои порядки, в немалой степени, влиявшие на условия содержания заключенных. Например, Инструкция Главного тюремно- 82
го управления, предписывавшая раздельное содержание политических каторжан и уголовников, часто не выполнялась. Из-за нехватки тюремных помещений в каторжных тюрьмах Восточной Сибири уголовники и политические преступники порой были вынуждены проживать в одной камере. Обе категории осужденных неохотно контактировали друг с другом, между ними случались конфликты. Однако, по мнению губернатора М.П. Хорошхина, которое он изложил в своем отчете, «…перевод совершивших государственные преступления в общую тюрьму и помещение их в оной на одинаковом положении с прочими преступниками положил ожидаемый предел тому исключительному положению, в котором находились Государственные преступники, и оказал хорошее влияние на преступников и в тоже время облегчил работу администрации» [7, Л. 17 об.]. Военный губернатор Я.Ф. Барабаш, напротив, считал неразумным «содержание в тюрьмах арестантов без подразделения по родам преступления, на осужденных и подследственных». По мнению губернатора, содержание вместе закоренелого преступника, мелкого мошенника и случайного обитателя тюрьмы (беспаспортного или заключенного по подозрению) в конечном итоге делает их одинаково вредными для общества. В своем циркуляре Я.Ф. Барабаш отмечал, что «хотя и устройство тюремных замков Области не соответствует требованиям закона, но при большой заботливости тюремной администрации возможно лучшее размещение арестантов» [8, С. 3].
На протяжении всего XIX и в начале XX в. законодательная база, касающаяся ссылки, претерпела серьезные изменения. Неукоснительно соблюдая требования многочисленных циркуляров, касающихся тюремного дела, военные губернаторы вносили свои предложения по улучшению процесса функционирования каторги и ссылки в Забайкальской области, выступая инициаторами преобразований.
Предметом постоянного внимания забайкальской администрации в управлении ссылкой было содержание семей ссыльнокаторжных, о чем имеются многочисленные сведения в делопроизводстве военных губернаторов. В отчете за 1890 г. военный губернатор Е.О. Мациевский писал: «Положение таковых семейств было крайне печально; нередко единственный работник сидит в тюрьме, а жена и дети без куска хлеба и без всякой возможности что-либо заработать» [7, Л. 18]. В отчетах практически всех военных губернаторов содержатся просьбы об открытии приютов для детей ссыльнокаторжных, больниц и богаделен для больных и дряхлых ссыльных.
К 1909 г. число престарелых поселенцев в области, не способных работать и получающих трехрублевое пособие, составляло 157 чел. В действительности, по мнению военного губернатора В.И. Косова, нуждающихся было значительно больше, но недостаток средств не позволял содержать их всех. Очень часто, указывал в отчете губернатор, «дряхлые ссыльнопоселенцы ложатся бременем на местное население, поддерживающее существование этих несчастных» [9, С. 1].
По мнению исследователей, региональная власть рассматривала ссыльных, прежде всего, в качестве колонизационного элемента, необходимого для экономического освоения региона [10, С. 67]. Однако, на наш взгляд, это утверждение верно для XVIII – начала XIX вв., когда ссыльные действительно были совершенно необходимой «движущей силой» освоения отдаленных сибирских территорий. Но во второй половине XIX в. ссылка как колонизационный ресурс в основном исчерпывает свой потенциал и, судя по отчетам военных губернаторов Забайкальской области, становится обременительным фактором для края. В первых же отчетах военных губернаторов ссыльнопоселенцы характеризуются исключительно негативно. П.И. Запольский в отчете за 1852 г. писал: «Большая часть из них, потерявших однажды любовь к доброму и полезному, стремится постоянно к дурным наклонностям, и не одобрительными своими действиями располагает нередко и крестьян к предосудительным поступкам, и только неослабное наблюдение Земской Полиции предупреждает преступление, к коим склонны ссыльнопоселенцы. К оседлой же жизни привыкают не скоро, по исключительной наклонности к праздношатательству. Вообще же справедливость требует сказать, что класс поселенцев, населенных в Области, кроме вреда, порождаемого иногда вредными их действиями, мало приносит пользы в общем составе населения в Области» [11, Л. 56].
Поиск оптимальных путей решения проблем пребывания ссыльнопоселенцев в области становится весьма актуальным для всех военных губернаторов. «Положение ссыльнокаторжных и само устройство каторжных работ требуют коренного изменения, - писал И.П. Педашенко в 1874 г. – В настоящее время каторжные работы не достигают ни карательной, ни исправительной цели, причина тому – неудовлетворительность обстановки» [12, Л. 4]. В его же отчете за 1878 г. прозвучали мнение о негативном влиянии ссылки на социально-экономическое положение региона: «Положение ссыльнопоселенцев крайне не обеспечено, и от такого положения страдает во многом и коренное население области. Все усилия к нормальному устройству быта ссыльнопоселенцев не могут достигнуть желаемой цели, т.к. нет средств к устранению противодействующих причин: безсемейности преступников, нравственной их испорченности, и непривычки к тяжелому земледельческому труду» [4, Л. 3].
Было очевидно, что ссылка уже не справляется с колонизационными задачами. Ссыльнопоселенцы с большим трудом включались в хозяйственную жизнь края, а заботы о них ложились «бременем на местное население». В 1889 г. военный губернатор М.П. Хорошхин в своем отчете писал: «Ежегодно сотни и тысячи людей, осужденных на каторгу, идут с разных концов Империи в Забайкалье, в котором и остаются за тем на поселение. Оторванный от прежней обстановки, достаточно испортившийся и нравственно и физически, во время продолжительного пребывания на этапах, в пути и в тюрьмах, почти с одними голыми руками является поселенец в место, назначенного ему для пребывания и оседлости. Здесь он должен своими трудами завести все домоводство до последней доски, от общества должен получить землю в надел и вести трудовую жизнь. Большинство предпочитают идти на заработок, да и 84
общество охотно его увольняет. Постепенно накопилось в области ссыльнопоселенческое население, выросло в десятки тысяч и стало в большинстве язвою, разъедающей край, неизлечимою болезнею, истощающею население, которому, в конце концов, приходится кормить всех тех, кто или не хочет сам работать, или не может по болезни или дряхлости» [13, Л. 46-46 об.]. Военный губернатор М.И. Эбелов считал, что из-за значительного числа ссыльнопоселенцев (в 1907 г. – свыше 16 тыс. чел.), ежегодно прибывающих из тюрем Нерчинской каторги и другими путями, Забайкальская область находится в исключительных условиях развития преступности среди населения [14, С. 5]. Военный губернатор В.И. Косов в отчете за 1910 г. поддержал своего предшественника: «Вопрос о положении ссыльнопоселенцев в Забайкалье обостряется с каждым годом, так как в настоящее время для водворения их осталось только три волости, остальные освобождены от водворения, согласно закона о землеустройстве, поселенцев же прибывает с каторги ежегодно от 600 до 700 чел. Большая часть из этого числа, не будучи совершенно пригодна к земледельческому труду и не находя на местах водворения заработков, естественно стремится уйти оттуда […] население само радо избавиться от этого элемента и не препятствует уходу поселенцев. Результат этого – постоянное пополнение кадра преступников в городах и больших селениях и не прекращающееся увеличение числа преступлений» [15, С. 2].
Значительное число ссыльных в Сибири – от 30 до 40 % - постоянно находилось в бегах [16, С. 282]. Сведения о бежавших и найденных содержались во всех отчетах военных губернаторов. Согласно им «в безвестной отлучке» находилось от 3 530 ссыльных в 1902 г. до 5 711 – в 1910 г. [15, С. 1; 17, С. 1] О ходе поиска бежавших Забайкальскому военному губернатору поступали рапорты от окружных начальников [18, Л. 17-18 об.]. Однако сам поиск значительно затруднялся отсутствием четких описаний внешности бежавшего: очень часто разыскивали «Непомнящих и Ивановых с обыкновенным носом и ртом» [19, С. 13].
«Неисчислимое зло ссылки» Н.М. Ядринцев считал основным тормозом распространения в Сибири общих гражданских прав. По его мнению, и сибирская администрация, и сибирское общество одинаково осознали неудобства ссылки и необходимость ее отмены [20, С. 222.]. В отчете за 1889 г. М.П. Хо-рошхин обращался к императору: «Повергаю на милостивое воззрение Вашего Величества указаний на другое из могучих средств для поднятия края: это на отмену или ограничения ссылки в Забайкалье. […] тот день, в который милостью Вашего Величества ссылка в Забайкалье будет отменена или ограничена, будет радостным днем для края не только в ближайшие времена, но и для многих, многих последующих поколений» [13, Л. 46 об.]. По мнению военного губернатора В.И. Маркова, каторга в Забайкальской области нужна была в то время, когда область имела столь редкое население, что для разработки горных богатств нельзя было найти вольных рабочих на месте, а доставка их из внутренней России, за отсутствием удобных путей сообщения, была слишком за- 85
труднительна и дорога. К началу XX в., подчеркивает военный губернатор, условия эти изменились, и каторга стала опасной для региона. Существование ее в Забайкальской области, приграничном с Китаем Нерчинско-Заводском районе «представляется опасным анахронизмом», доказывает В.И. Марков, потому что «наш восточный сосед уже не тот, каким он был сравнительно недавно». Непосредственное соседство нашей каторжной колонии с китайскими владениями, считал губернатор, неудобное уже в мирное время, создаст в случае военных осложнений весьма серьезную опасность. В тылу и на флангах нашей действующей армии окажется до 3,5 тыс. тяжких уголовных и политических преступников, которых при обстоятельствах военного времени невозможно будет эвакуировать и которым нетрудно будет вырваться на свободу. И если во внутренних губерниях, по мнению военного губернатора, время для ожидания законодательного решения вопросов каторги и ссылки еще есть, то того же нельзя сказать в «отношении пограничной области, какой является Забайкальская. Никому неизвестно, когда прочность нашего положения в этой области может подвергнуться тяжкому испытанию» [21, С. 11].
Выявленные исторические источники позволяют нам утверждать, что проблемы управления ссылкой постоянно находили отражение в губернаторских отчетах. Военные губернаторы первыми осознали утопичность попыток превращения массовой уголовной ссылки в важный элемент колонизационной политики в области и пытались в своих отчетах донести эту мысль до имперского правительства. Со времени образования Забайкальской области ее высшая администрация понимала негативное влияние ссылки на социальноэкономическое, политическое и культурное развитие региона и добивалась ее уменьшения и даже отмены.
Список литературы Забайкальская ссылка и каторга в отчетах военных губернаторов (2-ая половина 19 - начало 20 в.)
- Российский государственный исторический архив г. Санкт-Петербург (далее -РГИА) Ф. 1265. Оп. 1. Д. 87.
- РГИА. Ф. 1265. Оп. 4. Д. 36.
- Государственный архив Забайкальского края г. Чита (далее -ГАЗК) Ф.1 (о). Оп. 1. Д. 346.
- ГАЗК. Ф.1 (о). Оп. 1. Д. 1611.
- Иванов А.А., Кальмина Л.В., Курас Л.В. Забайкальская периферия на переломе эпох (1880-1920 -е гг.). -Иркутск, 2012. -300 с.