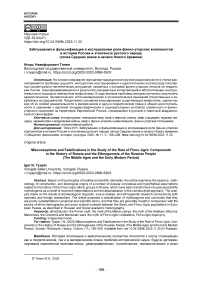Заблуждения и фальсификации в исследовании роли финно-угорских компонентов в истории России и этногенезе русского народа (эпоха Средних веков и начало Нового времени)
Автор: Тяпин И.Н.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 11, 2025 года.
Бесплатный доступ
На основе следования принципам традиционной научной рациональности в статье рассматривается проблема сущности, методологии конструирования и идеологических истоков ряда популярных концептуально-гипотетических допущений, связанных с историей финно-угорских этносов на территории России, трансформировавшихся в результате некорректных интерпретаций и абсолютизации конструктивистского подхода в лженаучные мифологемы. В ходе анализа проблемы автором изучались результаты археологических, лингвистических, источниковедческих и этногенетических изысканий отечественных и зарубежных исследователей. Предложены основания классификации существующих мифологем, сделан вывод об их слабой доказательности в эмпирическом и научно-теоретическом плане и общей несостоятельности в сравнении с картиной этнодемографических и социокультурных контактов славянского и финно-угорского населения на территории Европейской России, сложившейся в русской и советской академической историографии.
Этнофутуризм, поморский миф, миф о мерских станах, миф о кацкарях, мурома, мещера, черемисские и мордовские войны, миф о финно-угорских цивилизациях, финно-угорская топонимика
Короткий адрес: https://sciup.org/149149810
IDR: 149149810 | УДК: 39:94(47) | DOI: 10.24158/fik.2025.11.25
Текст научной статьи Заблуждения и фальсификации в исследовании роли финно-угорских компонентов в истории России и этногенезе русского народа (эпоха Средних веков и начало Нового времени)
Вологодский государственный университет, Вологда, Россия, ,
,
факторов. В условиях конкуренции теоретических концепций этноса данная проблематика требует обеспечения устойчивых междисциплинарных связей и обращения к широкому перечню методов при их корректном использовании. Опасность исторических спекуляций и фальсификаций может быть весьма значительна, особенно если тот или иной народ переживает кризис национального самосознания, утрату ценностных ориентиров. В настоящий период применительно к России указанное обстоятельство касается русского народа (составляющего основную массу населения страны и исторически идентифицирующего себя с государством-цивилизацией), а также финно-угорских народов (среди которых наблюдается заметное уменьшение численности). Укрепление демографического статуса, этнокультурной идентичности и взаимопонимания в рамках гражданской нации соответствует интересам и государствообразующего народа, и финноугорских меньшинств.
В современных исследованиях этнической истории получает распространение парадигма рассмотрения объекта как ментального конструкта. Конструктивистский подход предполагает возрождение идентификации этнических сообществ, некогда ассимилированных более крупными общностями. Концептуально этнофутуристическое возрождение оформляется в качестве «возвращения к историческим корням, культурным истокам», «восстановления исторической справедливости» путем вызывания «новых этносов» из этносоциального небытия к реалиям современной жизни (Егоркин, 2010: 185). Однако в действительности оно оказывается в большей степени набором постмодернистских фантазмов (как пишет М.С. Уколова, «будучи феноменом постнеклассического типа, этнофутуризм обнаруживает такие сближающие его с постмодернизмом свойства, как парадоксальность и интертекстуальность, цитатность и игровое начало; иррациональность и импровизационность»1), направленных на реализацию политических и иных целей, не связанных с ценностью научной истины.
Тема настоящего исследования имеет длительную традицию, ставшую важной частью складывания светской исторической науки в Российской империи и формирования этнополитической и цивилизационной самоидентификации русского общества. Однако под воздействием этнофутуризма тема финно-угорских этносов и культур в истории России начала приобретать черты альтернативной истории. Особое значение имеют сюжеты, связанные с ранним, зрелым и поздним Средневековьем (а также непосредственно примыкающими к Средним векам периодами), когда этнодемографические процессы (межэтнические контакты, этническая ассимиляция и т. д.) на территории Европейской части современной России соединились с процессами формирования и укрепления государственности, расширения ареала распространения восточнославянского населения, складывания у него общего самосознания.
Целью данной статьи выступает анализ эмпирических и концептуально-методологических оснований распространенных фальсификаций в исследовании взаимоотношений славянского и финно-угорского населения в истории России, относящихся к периодам Средних веков и начала Нового времени.
Важным условием достижения поставленной цели (кроме ранее упомянутой необходимости обращения к методам классической и современной науки, таким как библиографический анализ и систематизация информации, проблемно-хронологический метод, сравнительно-исторический метод и др.) выступает опора на принципы системности и историзма.
Основная часть. Наиболее известна в научном и массовом сознании «поморская концепция». Ее суть – постулирование существенного генетического, языкового, религиозного отличия от русских населения едва ли не всей Архангельской области и северо-востока Карелии, будто бы произошедшего от местных неолитических племен, а затем – финно-угорских этногрупп. Ранее мы доказывали, что локализация концепта «Поморье» корректна в рамках исключительно территории беломорского побережья и нижнего течения рек, впадающих в заливы Белого моря (остальные волости и уезды жили хлебопашеством, а не морской добычей), и применительно только ко II тысячелетию нашей эры, равно как и то, что Поморье – субрегион в пространстве Русского Севера, культурно и хозяйственно связанный с более южными районами России не меньше, чем с Баренц-регионом (Тяпин, 2023). Необходим отказ от интерпретации поморского согласия как некоей «поморской церкви» (наряду с поморщиной у старообрядцев Беломорья были распространены и другие течения беспоповского раскола). Сравнительно недолго использовавшийся пиджин «руссе-норск» / «моя-по-твоя» (единственной функцией которого было обслуживание меновой торговли) не отдельный язык; некорректно отнесение «поморской говори» к финно-угорской группе в силу того, что ее основной понятийный аппарат и грамматика имеют русское происхождение. Поморы представляли собой в первую очередь не этническую группу, а социально-хозяйственную. Доказано преобладание среди них слегка «размытого» ильменско-белозерского антропологического типа (Алексеева, 1963; Витов, 1997; Санкина, 2000). Относительное генетическое своеобразие современных потомков поморов (которое, кстати, сложилось в большей степени только в XVIII – середине XIX в. за счет разнообразных миграций небольших групп русского, карельского, коми-зырянского населения) не составляет единого кластера (Балановская, Балановский, 2007). Необъективен негативный характер оценки последствий включения Поморья в состав Русского государства (тема потери демократических традиций), ибо переход северных вотчин новгородских бояр в статус черносошных земель как раз отменил бытовавший там институт патриархального рабства и предотвратил тенденцию к частному закрепощению. Сомнительна практика именования Беломорского побережья финно-угорской Биармией из саг, поскольку скандинавских находок, относящихся к раннему и зрелому Средневековью, на побережье Белого моря не найдено (Куратов, 1978). А.Л. Никитин доказал смешивание под именем бьярмов в одном случае (искаженный переписчиками короля Альфреда рассказ Оттара Холугаландского) – саамов, в другом – ливов (сюжет об ограблении святилища Йомалы в саге об Олафе Святом) (Никитин, 2001: 673–700).
Сегодня получила популярность установка о длительном, до XVI–XVIII вв., сохранении летописной мери. Идейный стержень веры в существование «страны Меремаа» (или «Мерьямаа») на территории нескольких областей Центрального Нечерноземья образует концепция «мерских станов» в окружении славянских поселений. Убедительного обоснования построения, восходящие к исторической науке середины позапрошлого столетия (когда И. Шёгрен, А.С. Уваров, а позднее – некоторые краеведы, буквально воспринимая «Повесть временных лет», пытались искать следы летописных племен в Ополье, Белозерье и других местах), не получили: «Доводов в пользу гипотезы о “мерских станах”, кроме звучания имен, за прошедшие 150 лет не возникло. Нет языковых и этнографических отличий их жителей, нет данных археологии, нет особенностей топонимики. Более того, даже не уточнено местоположение этих станов и происхождение их имен» (Городилин, 2012: 12). Тем не менее в рамках историко-филологических изысканий (темой, в частности, занимался член-корреспондент Российской академии наук А.К. Матвеев) произошла догматизация гипотезы о том, что названия с сочетанием «мер», «нер», «нерль», «мерин», «тимер», «мерец» – обязательно след мерянской этнообщности, упоминания о которой в источниках («Деяния гамбургских архиепископов» А. Бременского и «Повесть временных лет») ограничиваются событиями IX–Х вв. (и то тогдашняя меря – уже славянско-финно-угорский симбиоз (Седов, 2005: 218–229; Макаров, 2012: 203)).
Возникли даже претензии на успешную реконструкцию мерянского языка, что в реальности свелось к созданию вымышленного «продукта» из смеси живых языков балтийских, пермских и волжских финно-угров. В этом плане наиболее известны находящиеся в зависимости от лженаучной концепции украинской истории М.С. Грушевского труды филолога-западнослависта, члена-корреспондента Национальной академии наук Украины О.Б. Ткаченко, который, не будучи дипломированным специалистом по финно-угроведению и толком не зная финно-угорских языков, извратил гипотетическую версию члена-корреспондента Академии наук СССР П.Н. Третьякова о возможном сохранении небольших остатков мери после начала славянской колонизации. В действительности П.Н. Третьяков и другие археологи (Н.А. Макаров, А.А. Спицын, В.А. Лапшин, Е.И. Горюнова, А.Е. Леонтьев) с опорой на артефакты показали, как мерянский этнокультурный массив под воздействием переселений славян из Новгородских земель и Поднепровья почти исчезает к началу – середине XII столетия. Ярославские памятники с финно-угорскими субстратными компонентами в древнерусской материальной культуре относятся к IX–Х вв., владимирские – к Х–XI вв., а костромские – к XI–XII вв. (Дубов, 1990). В условиях наступившего климатического оптимума, продуктивного для землепашества, славянское освоение «обусловило формирование системы расселения с очень высокой плотностью и преобладанием крупных населенных пунктов или гнезд близкорасположенных поселений» (Карпов, 2014: 23). При этом специалисты по результатам анализа комплексных памятников (поселений, массовых захоронений и др.) в большинстве своем делали выводы о том, что лишь немногие из славянских поселков выросли на основе мерянских, славяне перемещались относительно крупными общинами, сохранявшими целостность и избегавшими иноэтничных брачных связей, а меря предпочитала не столько интегрироваться, сколько уходить из Ростово-Суздальской земли на северо-восток (так и появились мерянские памятники в костромском Заволжье). Однако О.Б. Ткаченко заявил о длительном сохранении мерянского населения в пространстве ВолгоКлязьминского междуречья (в действительности, меря была к моменту славянской колонизации сравнительно малочисленна и территориально ограничена), надуманно постулируя региональные особенности звукопроизношения и диалектизмы как остатки мерянского языка и, соответственно, объявив последний субстратом русского (данный – научно устаревший – тезис, весьма любимый украинскими фальсификаторами истории, О.Б. Ткаченко просто заимствовал у немецкого языковеда начала ХХ в. Э. Леви и привязал конкретно к мере). Это при том, что в современной науке доказана весьма ограниченная роль финно-угорских лексических заимствований (применительно к названиям частей жилища, строений, компонентов поселений, хозяйственных занятий и т. д.)
не только в русском литературном языке, но и в сельских диалектах Русского Севера и Верхнего Поволжья (Востриков, 1981; Теуш, 2019). Произвольные допущения киевского лингвиста завершились «открытием» мерянской письменности: «Последний период развития мерянского языка, собственно исторический, так как именно в это время начинают фиксироваться его слова и названия и, очевидно, осуществляются попытки создания мерянской письменности с миссионерской целью, относится к X–XVIII вв. н. э.» (Ткаченко, 2007: 138). Утверждение о том, что не имеющая никаких следов существования письменность для ассимилированного народа создавалась восемьсот лет, нельзя воспринимать иначе как абсурд.
В отдельной публикации мы показали, что доказательства о сохранении мери и русско-мерянского двуязычия до XVIII в. у О.Б. Ткаченко не выдерживают критики (Тяпин, 2024: 71–72). Первое из «доказательств» – апеллирование к мерским станам, породившее откровенно фантазийные утверждения о развитии мерянского языка «до второй половины XVII в. даже в центральной части бывшей мерянской территории» (Ткаченко, 2007: 241). Второе «доказательство» – ква-зилогическое, с нарушением закона достаточного основания: раз продолжала существовать меря, значит, существовал и развивался язык. Третий довод – квазиэмпирический – основан на факте существования так называемого елманского/галивонского языка у костромских и галичских офеней и рыбаков, который О.Б. Ткаченко определил как «социальное русское арго, лексика которого, однако, состояла из нерусских, в том числе местных субстратных мерянских, элементов» (Ткаченко, 2007: 98). Версия о том, что тайный язык есть остаток мерянского, строится лишь на его названии, которое справедливо увязывается с марийским словом «йылме» (язык). Но это логичнее объяснить тем, что костромичи в ходе контактов с марийцами в Поволжье могли использовать подходящее слово для обозначения арго. Редкие примеры елманских слов, которые можно привязать к финно-угорским языкам, есть заимствования уже Нового времени.
Гипотеза о вовлеченности финно-угорского населения в славянскую колонизацию Русского Севера возникла в связи с обнаружением там редких археологических находок предметов, связываемых с дославянской культурой Волго-Окского междуречья. В принципе, их нахождение легко объяснимо торговыми контактами балтийских и волжских финно-угров, а не масштабными миграциями последних на север (перемещения отдельных мини-групп, разумеется, допустимы). Другой вариант объяснения связан с принадлежностью летописной веси к волжской, а не балтийской группе финно-пермских этносов. Эту версию в свое время обосновал А.Н. Башенькин в ходе анализа археологических памятников веси, их жилища, погребального обряда, украшений (Башенькин, 1994). Тем не менее А.К. Матвеев, указывая на распространенность гипотетически мерянского гидронима «Вёкса» в низовьях реки Вологды и в акватории Кубенского озера, лишь на основе экономических связей этих мест с Поволжьем допускал попадание мери даже в районы озер Белого и Воже. Исследователь (оговариваясь, впрочем, про недостаточность только языковых данных для доказательных этногенетических выводов) пришел к следующему утверждению: «Несколько легче ответить на вопрос, когда обрусела северная меря, во всяком случае в Пова-жье и на Устье: в XVI–XVII вв. в Поморье наряду с четырнадцатью уездами, заонежскими и лоп-скими погостами особо выделялись Устьянские волости, охватывающие бассейн Устьи и верхнюю Вагу, а также Чарондская округа. Создание этих административных территорий было, видимо, каким-то образом связано с существовавшими еще в то время мерянами в Устьянских волостях и чарондскими “марийцами” в Чарондской округе. Вологодская меря, судя по всему, обрусела раньше» (Матвеев, 1997: 16). Однако из чего следует, что выделение административных единиц в централизованном государстве как-то связано с особым этническим составом их населения? Какие конкретно основания позволяют говорить о многовековом существовании устьян-ских мерян и чарондских марийцев?
Ответвлением мерянского мифа стал сепаратистский – о кацкарях, сконструированный в 1990-х – начале 2000-х гг. (Темняткин, 2003) как калька с мерянистики. Вымышленные кацкари (данный этноним до этнотворчества краеведа С.Н. Темняткина был абсолютно неизвестен) стали объявляться потомками мери, невзирая на то, что проведенный анализ материальной культуры, словаря «кацкого языка» (состоящего не только из диалектной, но и из разговорной лексики, а также искусственно сконструированных энтузиастами форм (Баранова, 2014: 32–33)) и генетики местного населения не выявил отличий от соседних районов. Использовав для утверждения особой этнично-сти коренных жителей название исторической административно-территориальной единицы – Кац-кой волости, а потом Кацкого стана (от реки Кадки), С.Н. Темняткин и его последователи добавили указание на диалектные слова и особенности выговора как якобы остатки древнего финно-угорского языка, хотя славянская основа абсолютного большинства из них очевидна. К этому энтузиасты «Кацкой Руси» присовокупили утверждения про своеобразие традиционной культуры, сводящееся к мытью в печи (восприятие этой практики, более характерной для южных районов России и Украины, как финно-угорского культурного компонента весьма наивно) и местной сказке о Белой корове.
На основе единичного упоминания из одной фразы («до Устьюга, гдЪ тамо бяху тоймици погании») в «Повести о погибели Русской земли» (середина XIII в.) был искусственно концептуализирован вопрос о тоймичах, объявленных ассимилированным финно-угорским народом: «Этноним “тоймичи”, по итогам предпринятого исследования, образован на собственно русской почве от гидронима “Тойма”. Сам этот гидроним, встретившийся в интересующем нас ареале от бассейна Северной Двины до бассейна Камы, по результатам наших разысканий имеет прибалтийско-финское происхождение и его появление связано с одной из волн миграций прибалтийско-финских народов к востоку от ныне занимаемых ими территорий» (Бурыкин, 2018: 26). Однако каковы реальные доказательства (археология, вопреки абстрактным ссылкам на нее последователей гипотезы, их не предоставляет) того, что тоймичи (toimalaiset, как их уже поименовали финские историки) представляли собой этническую группу, а не население территории, где были пережитки язычества, если ее название образовано от топонима?
Изображение населения Рязанской и Владимирской областей как прямых потомков мещеры и муромы, утративших «родной» язык, стало в последние десятилетия одним из трендов местных научных изысканий.
Важно отметить, что территория археологической культуры муромы была небольшой (примерно 20-километровый радиус от Кремлевской горы в г. Муроме (Зеленцова, Холошин, 2022)), притом бытовавшей в автохтонном виде по VIII столетие (смешанный тип). Уже VII–IX вв. стали временем проникновения сюда кривичей, ильменских словен и вятичей (Смирнов, 2016). Однозначно не установлено, является ли слово «мурома» самоназванием или же топонимическим именованием по основанному в конце IX – начале Х в. Мурому, равно как и его языковые корни. «Нам неизвестно, – пишет В.С. Кулешов, – никаких работ, где было бы доказано финно-угорское происхождение хотя бы нескольких топонимов Муромского Поочья… Лингвистический материал по муромской проблеме крайне ограничен и противоречив. С одной стороны, единственный дошедший до нас реликт “муромского языка” – этноним “morama” – несомненно, финно-угорский по бытованию: он, возможно, близок к мордовскому, хотя и является вероятным балтизмом, подобно тому как экзоэтноним мордвы представляется вероятным индоиранизмом. С другой же стороны, топонимически финно-угорская мурома неуловима, а топонимия муромской округи в целом рождает балтийские ассоциации» (Кулешов, 2003).
Конструктивистско-этнофутуристический подход к теме мещеры, впервые упомянутой в Даниловском списке «Толковой палеи» (XIII в.)1, в силу позднего существования топонима «Мещерский край» и именования местного населения как мещеряков мотивировал спекулятивные рассуждения об этническом «слиянии», наличии у местных русских черт, сходных с культурой соседних финно-угорских народов (Бузин, Егоров, 2008), без уточнения, в чем состоит данное сходство и какой характер (этнический либо социоэкономический) оно носит. Завершение обрусения мещеры пытаются относить к XV–XVI столетиям, а то и позже. Первым «доказательством» считается включение упоминания о мещере как особом языке в поздних списках «Повести временных лет»: «В списках XV в. (Софийская первая летопись, Московский летописный свод) имевшая “свой язык” мещера помещается между муромой и мордвой, заменяя исчезнувших из перечня черемис. В редакциях XVI – начала XVII вв. (Русский хронограф 1512 г., Вологодско-Пермская летопись) сообщается, что “по Оце реце, где потече в Волгу, седит Мурома язык свои, Мещера свои, Черемиси свои”. Наконец, в ряде списков XVI–XVII вв. (Львовская и Ермолинская летописи. Свод 1518 г.) значится: “А по Оце реце близ устья Мурома. А инии свой язык имьяху Мордва и Черемиси”. В этих сводах уже не упоминается “свой язык” у муромы и опускается из перечня местных народностей мещера» (Рябинин, 1997: 214). Однако нужно учитывать, что уже с XIV столетия Мещерская земля выступает исключительно административно-территориальным понятием, в состав которой включалось пространство не только левобережья Оки, но и бассейна реки Мокши, заселенного мордвой и тюркоязычными мишарями (мешерой). Непонятно, идет ли речь в этих отрывках о волжско-финском или тюркском языке, а также какой конкретно территории это касается. В качестве второго «доказательства» продолжают использовать вырванную из контекста фразу из сообщения А. Курбского о походе московской рати на Казань «черезъ Рязанскую землю и потом черезъ Мещерскую, идЬже есть мордовский языкъ». Однако оно относится к правобережной части Мещерской волости (ныне – к пограничью Рязанской области и республики Мордовии) либо вообще к территории после нее, где имелось мордовское население, но не этническое мещерское.
В действительности уже археологические находки XII в. в мещерском крае носят смешанный характер: «Процесс аккультурации мещеры был обусловлен не только втягиванием ее в орбиту древнерусского влияния, но и оседанием в Мещерском районе славян-земледельцев уже в XII в. Массовое же освоение края русскими, определившее в конечном итоге полную ассимиляцию финноязычного населения, началось не ранее XIV в., в эпоху исчезновения у славян курганного обряда. Этот колонизационный процесс археологически документирован распространением древнерусских селищ XIII–XIV вв.» (Рябинин, 1997: 235). При этом речь идет о восточной части мещерского края, в западной же процесс завершился раньше, так что в любом случае утверждения о финно-угорском населении на Оке в XV столетии и позже некорректны.
Распространилась традиция чуть ли не абсолютной финно-угоризации топонимики Центральной России и, особенно, Русского Севера (само собой, наличие дорусского слоя гидронимов и дорусских названий поселений реально имеет место, отражая иноэтническое участие в формировании древнерусской народности), когда для любого непонятного на первый взгляд названия непременно ищутся финно-угорские корни посредством обнаружения сходно звучащего слова или слога в каком-либо из живых языков данной группы. В силу их разнообразия «положительный» (правда, не имеющий отношения к научной истине) результат обычно удается получить. Между тем, доказано, скажем, наличие широкого слоя балтских топонимов в Центральной России (Манаков, 2006; Федченко, 2020). Важно понимать, что этимологизация посредством поиска языковых аналогий дает адекватные результаты исключительно при соблюдении следующих условий: 1) опоры на явное сходство звучания и желательно в различных финно-угорских языках, притом территориально относительно близких к объекту этимологизации; 2) наличия очевидной смысловой связи названия топонима с особенностями местности. На практике даже явно славянским названиям дается соответствующее истолкование с пояснением, что славяне просто переиначили на свой лад иноязычное слово, хотя подобное в практике встречалось (к примеру, название реки Свирь от вепсско-карельского ‘сюверь’, что означает «глубокий/глубокая»). Так, название деревни Амосово во Владимирской области (очевидно, что от церковного имени Амос) выводится из финно-угорского корня ‘мос’, а название реки Чернуха – от корней ‘чер’ – капля и ‘нук/нух/нюк’ – овраг, ложбина (Бейлекчи, 2008). Тиражируется перевод названия г. Череповец в Вологодской области как «племя рыбной горы», хотя этимология явно славянская: череп – лоб (в переносном смысле – холм, возвышенность (ср. «Лобное место»)) и весь – местность, деревня. Феномен одинаковых названий водоемов, селений и т. д. в различных регионах принято объяснять многочисленностью и длительностью сохранения финно-угорских автохтонов, их общим языком, а не тем распространенным в миграционной практике всех народов явлением, как использование ранее принятых (в данном случае – славянами) названий (в том числе финно-угорских) для аналогичных объектов на вновь освоенных землях.
К сожалению, в национальных регионах получило распространение неадекватное восприятие взаимоотношений «титульных этносов» со славянскими княжествами, а затем Русским государством. Так, К.Н. Сануков в рамках ангажированной оценки масштабов и целей политических репрессий 1930-х гг. в Марийской АССР заявлял следующее: «За многовековую историю народа это был второй великий катаклизм. Первый произошел во второй половине ХVI столетия, когда во время московского завоевания была уничтожена по меньшей мере половина народа, в первую очередь – “лучшие люди” (по выражению русской летописи), то есть феодализировавшаяся родоплеменная верхушка и другие активные участники национально-освободительной войны. А остались те, которые покорились и воспроизводили поколение за поколением население с колонизированным сознанием»1 . На самом деле восстания луговых марийцев, с ордынских времен использовавшихся в качестве татарской пехоты, были инспирированы ранее владевшим марийскими землями Казанским ханством (за которым, в свою очередь, стояло Крымское ханство). Они повлекли за собой соответствующие действия Русского государства: военный разгром и казни предводителей. Заявления об уничтожении половины народа абсолютно голословны; напротив, царская власть пыталась искать компромисс, снижая размер ясака и предоставляя мятежникам амнистии. Единого самосознания разные группы марийцев (что во времена И. Грозного, что в начале ХХ в.) не имели: оно было родовым, максимум – земляческим (Козлова, 1978: 182–190) .
Эксплуатируется также тема военных конфликтов с предками эрзи и мокши, в совокупности с трансляцией откровенного вымысла о «мордовской федерации» в домонгольский период или об уничтожении «мордовской столицы», называвшейся «Абрамов городок / Обран ош», на месте Нижнего Новгорода (хотя археологические данные показывают отсутствие каких-либо более ранних построек на территории Нижегородского кремля и в окрестностях города).
Еще одним примером конструирования мифов о городах финно-угорских народностей, которые якобы были уничтожены в ходе славянской колонизации и расширения Русского государства, может служить голословное утверждение о нахождении на месте г. Киров древнеудмуртского городища Кылнокар (само название придумано через приближение к финско-пермскому произношению одного из прежних именований Кирова – Хлынов).
Академическая наука давно установила, что уровень хозяйственного развития и социальный строй финно-угорских народностей на территории России в рассматриваемый период в силу географических условий оставался неолитическим (с фрагментами достижений бронзового и железного века), характеризуясь преобладанием охоты и рыболовства, слабой развитостью земледелия (мотыжного, реже – подсечно-огневого) и скотоводства, преимущественно домашним уровнем ремесла (Третьяков, 1970: 111–121). Подобный вариант хозяйствования позволял поддерживать существование, но не развиваться демографически и в социокультурном смысле. Городища, как правило, представляли собой не постоянные центры экономики и управления, а места укрытий (площадью редко более 1/ 2 гектара, слабые в фортификационном отношении) на холмах и у речных излучин, где в случае опасности собирались соседние группы. Реже это были центры чисто ремесленные, чисто военные либо же капища. Отмечаемые кое-где подвижки (появление богатых захоронений вождей, складывание военных городков и наличие дружин) были напрямую обусловлены контактами населения со славянами, скандинавами, тюрками (Тяпин, 2024: 81).
История с интерпретацией статуса Солдырского городища (IX–XIII вв.) показательна для понимания сущности этнофутуристического мифотворчества, когда за счет спекуляций понятиями и отдельными фактами рисуется картина прошлого финно-угорских народностей на территории современной России как поступательного, но насильственно прерванного складывания цивилизации. Для памятника, относящегося к развивавшейся под славянским и булгарским влиянием Чепецкой археологической культуре (представители которой по расово-антропологические признакам вряд ли являлись прямыми предками современных удмуртов), этноактивистами было придумано название «Иднакар» и установлен ложный статус «второго центра цивилизации северных удмуртов» (первый – упомянутый выше вымышленный Кылнокар). В реальности отсутствуют основания считать городище религиозно-политическим центром (на его территории не обнаружено следов военного гарнизона либо крупного жилища правителя) (Белых, 2005), тем более государственной столицей (о государственности праудмуртов в это время не может быть и речи).
Заключение . Распространение комплекса исторических мифологем в рамках темы «финноугорского фактора» в истории России и этногенезе русского народа, характера и последствий межэтнических контактов славян и финно-угров стало следствием главным образом слияния фундаментальных принципов методологии социального конструктивизма с идеологией этнофутуризма, осуществившегося в современном информационном пространстве геополитического противостояния (когда слабым гипотезам приписывается статус теорий). Указанный комплекс можно классифицировать по ряду оснований, прежде всего: 1) по сферам изучения (выделяются политические, лингвистические, включая топонимические, а также антрополого-генетические мифы); 2) по временной локализации (касающиеся: а) ранней славянской колонизации Восточно-Европейской равнины и складывания Древнерусского государства, б) периода раздробленности, в) истории Московского царства); 3) по целевой направленности (мифы, связанные с деславянизацией русских, и мифы о геноциде финно-угорских этнических групп).
Объективность дальнейших исследований финно-угорского мира в рамках истории России зависит от понимания значения методологических заблуждений и идеологических факторов (особенно в связи с конструированием фиктивных этнополитических и этнокультурных структур), их учета при анализе и оценке работ, выходящих по данной тематике. Однако уже сейчас можно сделать вывод о куда большей научной состоятельности подхода, сложившегося в русской академической историографии второй половины XIX – начала ХХ в. и советской исторической науке, оценивавшего роль финно-угорских этнокультурных компонентов в этносоциальных процессах в истории России рассматриваемого периода как второстепенную, а характер отношений славян-ского/русского населения с финно-угорскими этносами как относительно мирный и способствовавший материально-техническому и социокультурному прогрессу последних, что исключает основания для утверждений о геноциде и нарушении органического развития.