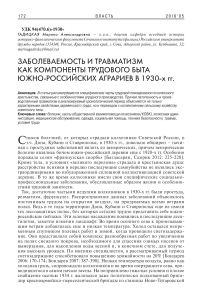Заболеваемость и травматизм как компоненты трудового быта южно-российских аграриев в 1930-х гг
Автор: Гадицкая Марина Александровна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 5, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются специфические черты трудовой повседневности колхозного крестьянства, связанные с особенностями аграрного производства. Причем патогенность и производственный травматизм в анализируемый хронологический период объясняются не только характерными свойствами деревенского труда, но и переходом к коллективному сельскому хозяйству советского типа.
Болезни, кассы общественной взаимопомощи колхозников (ковк), колхозная администрация, медицинское обслуживание, одежда, социальная помощь, техника безопасности, травмы, условия труда
Короткий адрес: https://sciup.org/170168403
IDR: 170168403 | УДК: 94(470.6)"1930"
Текст научной статьи Заболеваемость и травматизм как компоненты трудового быта южно-российских аграриев в 1930-х гг
С писок болезней, от которых страдали колхозники Советской России, в т.ч. Дона, Кубани и Ставрополья, в 1930-х гг., довольно обширен – начиная с простудных заболеваний вплоть до венерических, причем венерические болезни являлись бичом южно-российской деревни еще с 1920-х гг. Особенно поражала селян «французская скорбь» [Багдасарян, Скорик 2012: 225-228]. Кроме тела, в условиях «великого перелома» страдала и крестьянская душа: расстройства психики и нередко последующие самоубийства не являлись экстраординарными во взбудораженной сплошной коллективизацией советской деревне. В то же время колхозники имели свои специфические социальнопрофессиональные заболевания, обусловленные образом жизни и особенностями трудовой занятости.
Так, достаточно частыми недугами колхозников в 1930-х гг. были простуда, ревматизм, фурункулез. Распространение данных заболеваний объяснялось постоянным трудом на открытом воздухе, на продуваемых всеми ветрами полях. Ведь в те годы территории Дона, Кубани и Ставрополья еще не имели тех лесозащитных полос, без которых сегодня трудно представить себе южнороссийские пейзажи. Эти зеленые насаждения появились в последующие десятилетия, заметно изменив ландшафт. Во время осеннего сева к пронизывающим ветрам добавлялась еще и низкая температура. Холод оставался непременным спутником полевых работ и зимой, когда проводили снегозадержание. Оно представляло собой комплекс разнообразных работ по увеличению на полях снежного покрова, необходимого для спасения озимых посевов от вымерзания, для накопления воды весной и, в конечном счете, для получения высоких урожаев. По мнению специалистов, в рассматриваемый период снегозадержание способствовало повышению урожайности на 20% [Бондарев 2006: 170-174; Бондарев 2007: 387-390]. Низкая температура воздуха, равно как холодная грязь, сопровождали колхозников и во время сверхраннего сева, проводившегося в самом начале весны. На неприемлемо тяжелые условия и плохое снабжение осенью 1934 г. жаловался даже политически подкованный бригадир красноармейско-переселенческой бригады из станицы Ново-Титаровской
Краснодарского района Азово-Черноморского края: «Мы здесь мерзнем на холоде, теряем здоровье» 1 .
Вероятность заболевания резко возрастала в условиях отсутствия у колхозников хорошей одежды, а это наблюдалось в первой половине 1930-х гг. едва ли не повсеместно из-за крайне неудовлетворительного снабжения промышленными товарами и предметами ширпотреба. Представители власти и простые сельские жители постоянно жаловались на работу сельских лавок потребкооперации, где не было в наличии нужных товаров, «кроме спичек». Колхозники ощущали «острую нужду в обуви и мануфактуре» 2 , в лавках «нет совершенно починочных материалов и не получено ни одной пары обуви» 3 . Как отмечали на своих заседаниях члены Вешенского райкома ВКП(б) в конце 1934 г., «со стороны колхозников есть большой спрос на кожевенную обувь и теплое платье, но этой группы [товаров] как раз и нет» 4 .
Помимо профзаболеваний, негативным компонентом трудовых отношений и производственной повседневности в колхозах и машинно-тракторных станциях был травматизм. О масштабах травматизма свидетельствует принятое в октябре 1936 г. постановление ЦК Союза машинно-тракторных станций Юга-Центра «О работе профорганизаций по снижению заболеваемости в МТС, МТМ и ремзаводах», где удельный вес травматизма среди всех случаев нетрудоспособности фиксировался на уровне 13% 5 .
Ведущими факторами травматизма в колхозах и МТС выступали игнорирование правил безопасности, халатность, разгильдяйство, а отсутствие заботы о работниках со стороны начальства только осложняло ситуацию. Среди травм чаще всего упоминаются ушибы, порезы и переломы. Колхозник мог серьезно покалечиться при падении с лошади или со стога соломы при скирдовании. Бывали случаи, когда колхозники и рабочие, обслуживавшие локомобили, а также другие механизмы, получали ожоги при пожаре на току. В частности, в колхозе «Красный авангард» Калниболотской МТС Ново-Покровского района Азово-Черноморского края 6 мая 1934 г. сгорел новый комбайн «Коммунар», проработавший менее 3 месяцев. В происшествии оказались повинны бригадир, который не распорядился разместить поблизости бочки с водой, а также комбайнер, который «перед пуском не очистил комбайн от соломы [и] легковоспламеняющегося сора, допустил большое засасывание мотором горючего, отчего он работал с увеличенными вспышками, повлиявшими на воспламенение близлежащей соломы и мусора» 6 . При пожаре в «Красном авангарде» обошлось без жертв и пострадавших, но так было не всегда. Например, в 1940 г. моторист колхоза «Трудовая коммуна» Егорлыкского района Ростовской области А.Т. Поляков получил ожоги и попал в больницу 7 .
Наиболее тяжелым исходом заканчивались те несчастные случаи, когда колхозники попадали под режущие части жатки-лобогрейки или комбайна, в молотилку или другие механизмы. В романе Ф.И. Панферова «Бруски» есть детальное описание несчастного случая, когда один из крестьян попал в барабан молотилки. Результат происшествия поистине ужасен: «У молотилки на соломе лежала большая мясная лепешка. Из нее сочилась кровь. Некоторые ее части еще трепетали, дергались» [Панферов 1950: 486]. «Повезло» кубанской колхознице Прасковье по прозвищу Глухарка: ее как-то раз ударил по уху рычаг для запуска двигателя трактора, вырвавшийся у нее из рук. Она осталась на всю жизнь глуховатой, но продолжила карьеру трактористки до самой старости [Скорик, Гадицкая 2013: 575].
Представители власти и сельской общественности не являлись безучастными наблюдателями заболеваемости и травматизма в колхозном производстве и стремились бороться с этим злом. Коллективизация выступила мощным фактором развития в деревне системы медицинских учреждений. По своим параметрам она заметно превосходила досоветские и доколхозные аналоги, о чем обоснованно пишет Т.А. Самсоненко [Самсоненко 2011]. В состав советов содействия колхозному строительству, формировавшихся в конце 1920-х гг. при исполкомах разных уровней, входили представители отделов здравоохранения, курировавшие создание колхозных ветеринарных и медицинских пунктов 1 .
Борьба с заболеваниями и травматизмом среди земледельцев входила в задачи сельского медперсонала. Помимо содержавшихся за счет государства или местных бюджетов больниц и фельдшерских пунктов, колхозы сами готовили медсестер и сандружинников. По воспоминаниям одной из современниц коллективизации, по мере того как ее колхоз расширялся, «ощутилась нехватка в медицинских кадрах». Тогда в колхозе открыли курсы медсестер, «организовали во всех отраслевых мастерских и цехах пункты “Скорой помощи”. На каждом предприятии мы оборудовали аптечки, которыми ведал работник, окончивший наши курсы. Он же являлся председателем санитарной тройки, в обязанности которой входило следить за санитарным состоянием предприятия, охраной труда, личной гигиеной. Конечно, здравоохранение в коммуне носило чисто профилактический характер. Основные его задачи сводились к приобретению необходимых санитарно-гигиенических навыков, улучшению культурно-бытовых условий, предупреждению заболеваемости и правильному физическому воспитанию молодежи» [Кунина 1981: 251].
Колхозные бригады снабжались аптечками первой медицинской помощи. Так, весной 1933 г. колхозные кассы взаимопомощи Сальского района СевероКавказского края закупили для полевых бригад 75 аптечек 2 . К весне 1934 г. по официальным данным в Азово-Черноморском крае не было «ни одной бригады, ни одного табора, где бы не имелись свои аптечки» 3 .
На период важнейших сельхозкампаний – весеннего и осеннего сева, уборки урожая – предусматривалась мобилизация сельских медработников для обслуживания колхозных бригад и полевых станов. Практиковалась переброска на тот же период и с теми же целями медицинского персонала из городов. Кроме того, в рамках сельхозкампаний в колхозах организовывались «полевые здравпункты» или же санитарные посты в полевых бригадах. Эти меры рассчитывались на максимальное ускорение оказания медицинской помощи нуждавшимся в ней колхозникам [Самсоненко 2011: 73]. Однако на Кубани некоторые местные медработники отказывались оказывать медицинскую помощь переселенцам по поводу малярии по социально-политическим мотивам [Скорик 2009: 245-246].
Конечно, система медицинского обслуживания населения сложилась отнюдь не мгновенно, да и эффективность ее функционирования зачастую не выдерживала критики, поскольку многое зависело от уровня организационно-хозяйственного развития каждого конкретного коллективного хозяйства. Крепкие колхозы с большим успехом осуществляли меры по организации медицинской помощи и по охране условий труда, а слабые коллективные хозяйства, которые численно преобладали, особенно в первой половине 1930-х гг., подобные мероприятия проводили неудовлетворительно или не проводили вовсе. Так, политотдел Боковской МТС Северо-Кавказского края в ноябре 1933 г. констатировал отсутствие в подчиненных ему колхозах и тракторных бригадах каких бы то ни было пунктов оказания медпомощи1. Весной 1934 г. Вешенский райком ВКП(б) Азово-Черноморского края возмущался игнорированием со стороны райздравотдела своих обязанностей по организации медицинско-санитарного обслуживания колхозных бригад2.
Тем не менее, несмотря на проблемы и просчеты, система медицинского обслуживания сельского населения в 1930-х гг. постепенно расширялась и укреплялась, и это благотворно сказывалось на здоровье селян. Решительное улучшение ситуации в указанной сфере наблюдалось во второй половине 1930-х гг. в условиях пусть замедленного, но неуклонного организационно-хозяйственного укрепления колхозной системы.
Колхозники, потерявшие здоровье и трудоспособность на производстве, имели право на получение материальной поддержки и помощи. Оказанием социальной помощи советским аграриям занимались и сами колхозы, но в основном такие функции возлагалась на кассы общественной взаимопомощи колхозников (КОВК). Также рекомендовалось «инвалидов-колхозников, получивших увечье во время колхозной работы… удовлетворять пособием в повышенном размере», а вот «остальные категории инвалидов [пусть] получают общественную помощь, в зависимости от материальных возможностей кассы» [Платонов 1939: 37]. Помимо материальной помощи, желательным считалось устройство инвалидов на легкие работы с учетом их ограниченных возможностей. Как указывали руководящие работники, «основная задача кассы взаимопомощи при трудоустройстве инвалидов-колхозников состоит в том, чтобы устраивать их на работу внутри колхоза» [Николаев 1941: 11].
Впрочем, далеко не всегда вышеизложенные рекомендации и правила деятельности КОВК соблюдались на практике по причине дефицита средств во множестве колхозов и начальственного безразличия к нуждам рядовых аграриев. Так, в январе 1934 г. колхозница Ксения Шкарупилова из сельхозартели «Путь Ленина» Кропоткинского района Азово-Черноморского края жаловалась в редакцию краевой газеты «Молот», что ее дочери «по несчастью разбили на работе руки». Дочь «просила у правления дать помощь и работу по силе», но руководство колхоза игнорировало эти просьбы 3 . В марте того же года член сельхозартели «Мировой Октябрь» Тарасово-Меловской МТС Азово-Черноморского края И.Е. Лагдовский жаловался на бездушие начальников. Во время сева весной 1933 г. он лишился правой руки и в 20 лет превратился в нетрудоспособного инвалида. Когда же Лагдовский обратился в колхозное правление с просьбой выдать ему продовольствие, «колхоз отказал. Не начислил и трудодни по больничному листку». Попытки добиться справедливости в сельсовете и политотделе МТС также не дали результата: «так и хожу я семь месяцев [без помощи]» 4 .
Более того, в ряде случаев колхозная администрация даже исключала пострадавших аграриев из коллективного хозяйства, чтобы не тратить средства на их обеспечение. В частности, как жаловался колхозник сельхозартели им. Калинина Ворошиловского района Северо-Кавказского края В.Ф. Соловьев, из-за болезни глаз ему пришлось временно оставить работу; колхозные управленцы сказали ему: «Не нравится нам твое лицо. Плох», – и исключили его из колхоза1. Действительно, «пирамидальный образ в еще недавнем прошлом отражал господствующую традицию восприятия социальной иерархии, имеющую корни в феодально-корпоративном сознании, и соответствовал реальной социальной структуре тоталитарного общества» [Лукичев, Скорик 1995: 113], а посему «начальники» правили бал.
Как бы там ни было, право пострадавших колхозников на получение социальной помощи от колхозов и КОВК прописывалось в соответствующих нормативных документах, поэтому в большинстве случаев определенная поддержка нетрудоспособным все-таки оказывалась. Образцовые же коллективные хозяйства и кассы взаимопомощи при наличии в них неравнодушных работников окружали пострадавших аграриев заботой и вниманием. Так, упоминавшийся нами моторист колхоза «Трудовая коммуна» Егорлыкского района Ростовской области А.Т. Поляков, обгоревший на работе, и конюх колхоза «Труженик» Целинского района той же области А.Ф. Дыгало, травмировавший позвоночник, получили в 1940 г. помощь в полном объеме, и даже сверх того. Председатель кассы общественной взаимопомощи колхоза «Трудовая коммуна» Чмут, не удовлетворившись самим фактом лечения Полякова, посещал его в больнице, «привозил для него продукты на усиленное питание, передал деньги на дополнительные расходы по уходу за больным». КОВК колхоза, в котором работал Дыгало, выделила 500 руб. на его лечение» 2 . Отдельный сюжет связан с оказанием помощи временно нетрудоспособным матерям, так, например, алиментные обязательства взыскивались трудоднями [Гадицкая, Скорик 2009: 296].
Таким образом, несмотря на осуществлявшуюся в 1930-х гг. механизацию колхозного производства, труд советских аграриев являлся физически тяжелым занятием, а условия труда оставались зачастую неудовлетворительными и грозящими повышенной заболеваемостью и травматизмом. Тяжесть труда, неудовлетворительное продовольственное и материальное снабжение колхозников, пренебрежение начальства к их нуждам, низкая дисциплина труда и т.п. – все это влекло за собой профессиональные заболевания и травмы, выступавшие в качестве характерных компонентов коллективного сельского хозяйства советского типа. В то же время коллективизированная деревня отличалась в лучшую сторону от доколхозной деревни 1920-х гг. и дооктябрьской эпохи, поскольку здесь серьезно начали бороться с распространением профзаболеваний и увечий. Последовательная работа партийно-советских органов, колхозной администрации и деревенского актива по созданию должных санитарно-гигиенических условий в колхозах и улучшению условий труда позволяла снизить уровень заболеваемости и травматизма, что стало одной из позитивных характеристик колхозной системы.
Список литературы Заболеваемость и травматизм как компоненты трудового быта южно-российских аграриев в 1930-х гг
- Багдасарян С.Д., Скорик А.П. Крестьянская повседневность эпохи нэпа: досуг и праздник в южно-российской деревне в 1920-е годы. Новочеркасск: Лик, 2012. 239 с
- Бондарев В.А. 2006. Крестьянство и коллективизация: многоукладность социально-экономических отношений деревни в районах Дона, Кубани и Ставрополья в конце 20-х -30-х годах XX века. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ. 520 с
- Бондарев В.А. 2007. Российское крестьянство в условиях аграрных преобразований в конце 20-х -начале 40-х годов XX века (на материалах Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев): дис. … д.и.н. Новочеркасск. 789 с
- Гадицкая М.А., Скорик А.П. 2009. Женщины-колхозницы Юга России в 1930-е годы: гендерный потенциал и менталитет. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ. 324 с
- Кунина П.П. 1981. Женсовет в коммуне. -Первая борозда (cост. А.Ф. Чмыга, М.О. Левкович). М.: Политиздат
- Лукичев П.Н., Скорик А.П. Поведенческая типология студенческой группы // Социологические исследования. 1995. № 7. С. 109-115.
- Николаев П. 1941. Помощь престарелым и больным колхозникам. -Социальное обеспечение. № 2
- Панферов Ф.И. 1950. Бруски. М.: ГИХЛ. 492 с. Кн. вторая
- Платонов П. 1939. Задачи касс взаимопомощи колхозов в третьей пятилетке. -Социальное обеспечение. № 3
- Самсоненко Т.А. Коллективизация и здравоохранение на Юге России 1930-х годов: монография. Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2011. 224 с.
- Скорик А.П. 2009. Казачество Юга России в 30-е годы ХХ века: исторические коллизии и опыт преобразований: дис.... д.и.н. Ставрополь. 540 с
- Скорик А.П., Гадицкая М.А. 2013. Новые гендерные роли и повседневность женщин в колхозной деревне 1930-х годов (на материалах Дона, Кубани, Ставрополья). -Российская повседневность в зеркале гендерных отношений: сборник статей (отв. ред. и сост. Н.Л. Пушкарева). М.: Новое литературное обозрение. С. 538-582