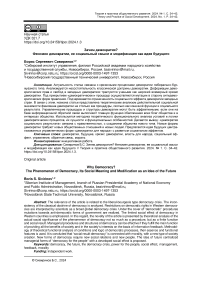Зачем демократия? Феномен демократии, ее социальный смысл и модификация как идея будущего
Автор: Сивиринов Б.С.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
Актуальность статьи связана с кризисными процессами демократии либерально-буржуазного типа. Анализируется несостоятельность классической доктрины демократии. Деформации демократических прав и свобод в западных демократиях трактуются учеными как широкий всемирный кризис демократии. Под прикрытием «демократических» процедур осуществляются мутации в сторону антидемократических форм правления. Подчеркивается ограниченность социального эффекта демократии западных стран. В связи с этим, новизна статьи представлена теоретическим анализом действительной социальной значимости феномена демократии не столько как процедуры, сколько как конечной функции и социального результата. Управленческие процедуры и структуры демократии могут быть эффективными, если они на базе информационной обратной связи выполняют главную функцию обеспечения всех благ общества и в интересах общества. Используется методика теоретического функционального анализа условий и логики демократических процессов, их сущности и функциональных особенностей. Делается вывод: «демократия социального результата» связана с нравственностью, с созданием общества нового типа. Новые формы демократии требуют новых общественных отношений и новых людей. Предлагается идея будущих централизованных управленческих форм «демократии для народа» с развитым социальным эффектом.
Демократия, будущее, кризис демократии, власть для народа, социальный эффект, управление, обратная связь, мораль
Короткий адрес: https://sciup.org/149144644
IDR: 149144644 | УДК: 321.7 | DOI: 10.24158/tipor.2024.1.3
Текст научной статьи Зачем демократия? Феномен демократии, ее социальный смысл и модификация как идея будущего
1Сибирский институт управления, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Новосибирск, Россия, , ,
1Siberian Institute of Management, branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Novosibirsk, Russia, , ,
Введение . Опыт трактовки демократии в социальной теории связан либо с попытками определения демократии, либо с анализом политических, правовых и общесоциальных функций демократии и ее механизмов. От возникновения демократии и до ее дальнейшего развития большинство авторов видит в демократии искусственно формируемую систему социальных взаимодействий личности и общества, социальных институтов и государства. До сих пор можно встретить архаичную интерпретацию демократии как «власти народа», как демонстрации только «воли большинства» и т. п.
Анализируя классическую доктрину демократии, Йозеф Шумпетер, приводит понимание демократии, распространенное в XVIII веке: «Демократический метод есть такая совокупность институциональных средств принятия политических решений, с помощью которых осуществляется общее благо путем предоставления самому народу возможности решать проблемы через выборы индивидов, которые собираются для того, чтобы выполнить его волю» (Шумпетер, 1995: 332).
Но история и европейской опыт «организации» демократии во всем мире показал несостоятельность ее классической доктрины. Демократия не может реализовываться в современном мире в формах первобытно-общинной и античной демократии, когда она существенно была связана с относительно доступной и реализуемой на практике процедурой «решения большинства» по относительно несложным проблемам. Сейчас же «Решение большинства, – как отмечает Ю. Хабермас, – может приниматься только таким образом, что его содержание считается рационально мотивированным (хотя и не застрахованным от ошибки) итогом дискуссии, которая как бы условно завершается, поскольку необходимо принять, наконец, какое-то решение» (Хабермас, 1992: 37). Это позволяет сделать вывод о том, что решение большинства, по мере усложнения социальных ситуаций, все более склонно к условному принятию «как бы» «рационально мотивированных» решений, даже если они ошибочны. Современная демократия, как отмечает Й. Шумпетер, недееспособна при последовательном соблюдении классического принципа «власти народа» и «пропорционального представительства». «Принцип демократии в таком случае означает просто, что бразды правления должны быть переданы тем, кто имеет поддержку большую, чем другие конкурирующие индивиды или группы» (Шумпетер, 1995: 359).
Демократия – деформации и иллюзии? Если основываться на традиционной фразеологии и штампах относительно демократии, то создается впечатление о масштабной иллюзии и прямой нереализуемости того, что многие называют «властью народа». Действительно, демократия, как власть в масштабах целого государства, должна функционировать в виде достаточно эффективной системы управления обществом и в интересах общества в универсальных аспектах, независимо от каких-либо социальных, групповых и конъюнктурных частных целей. При этом демократическое управление предполагает высокий уровень профессионализма и компетенции во многих узкоспециализированных сферах жизни общества, которыми не обладают даже представители большинства народа. Как отмечает Э. Гидденс: «Вебер и Шумпетер были совершенно правы, подняв вопрос о компетентности. Большая часть избирателей не в состоянии понять всей сложности решений, которые правительство постоянно вынуждено принимать, тогда как официальные лица и избранные члены выборных органов имеют возможность приобрести специальные знания по соответствующим вопросам» (Гидденс, 1999: 299). Но вопрос о компетентности может и должен быть поднят и в отношении самой демократической элиты, представители которой далеко не всегда имеют возможность (и желание), как думает Э. Гидденс, «приобрести специальные знания по соответствующим вопросам». Поскольку «избранные» в той или иной степени действительно обладают какими-то знаниями, правда, тоже не всегда достаточными, для принятия сложных решений, то это, в определенной мере, возвышает их по отношению к остальному населению. Таким образом, на протяжении длительного исторического периода сформировался феномен «демократического элитизма». Демократически избранные представители народа (автоматически), сначала просто формально, по процедуре, но потом, в силу общих бюрократических механизмов и личностных качеств, трансформируются в управленческую элиту, склонную к формированию элементов собственного текущего локально-бюрократического интереса, отдаленного от текущих и стратегических интересов общества. С другой стороны, «демократический элитизм» есть также и результат пассивного отношения населения к решению большинства государственно-общественных задач в силу его фактической некомпетентности и объективных факторов усложнения социально-экономических проблем.
Наметившиеся тренды в западных демократиях демонстрируют «увеличивающееся чувство апатии или даже недоверие по отношению к государственному управлению» (Buse, Swartz, 2014: 115). Еще Ч. Миллс отмечал, что в жизни мы имеем дело с «инертным обществом» и тенденцией превращения активной общественности в «пассивную массу» и что это знаменует «крушение того либерального оптимизма, который столь внушительно влиял на состояние умов в XIX в.» (Миллс, 1959: 415). Именно буржуазная ангажированность либерально-демократических систем порождает все более устойчивое недоверие и неприятие со стороны критической массы общества. В многочисленной политической и научной прессе отмечается тренд «ограничения демократических прав и свобод во многих странах как широкий всемирный кризис демократии» (Seitz, 2019: 6). Этого же мнения придерживаются и отечественные социологи, подтверждающие исчерпаемость «прежней парадигмы демократии» и повсеместное снижение эффективности институтов демократии на Западе (Горшков, Петухов, 2004: 27).
Анализ показывает наличие определенного функционального несоответствия требованиям демократии как со стороны управляемых масс, так и со стороны управляющих демократических элит. Не этим ли объясняются мутации современных форм управления в «развитых» западных демократиях, (разумеется, для решения «насущных проблем общества»), в виде создания правовых и административных локальных подсистем управления по сути абсолютистского и авторитарного механизма? И, как пишет Люк Ферри, происходит самоотрицание демократии на пути к диалектическому «превращению в ее противоположность» (Ferry, 2016).
Проблема деформации и низкой эффективности современных, большей частью, буржуазно-либеральных форм демократии, действительно, имеет под собой эмпирические основания. Опыт общества, сущностно-природные характеристики человека позволяют сомневаться в демократии как абсолютно реализуемом принципе и практике. Именно поэтому Н. Бердяев указывал на формальный характер демократии по отношению к воле народа. «В основе демократии, – писал он, – лежит оптимистическая предпосылка о естественной доброте и благостности человеческой природы …» Демократия не хочет знать радикального зла человеческой природы. Она как будто бы не предусматривает того, что воля народа может направиться ко злу, что большинство может стоять за неправду и ложь, а истина и правда могут остаться достоянием небольшого меньшинства» (Бердяев, 2012: 579).
Позже итальянский исследователь Н. Боббио писал о 5 невыполненных обещаниях демократии, так и не реализовавшей ни «плюрализма суверенных индивидов», ни «представительства интересов», а из-за «феномена политической апатии» не обеспечившей «активное участие в выборах» и «политической активности» большинства населения. (Bobbio, 1988: 14–21).
От процедурной демократии - к демократии социального результата . Как видно из вышеприведенных материалов, уже многолетняя трактовка многими авторами демократии в традиционной обществоведческой литературе часто связана с какими-либо аспектными подходами к этому весьма сложному явлению. Выделяются, по их мнению, наиболее важный, один или несколько доминирующих аспектов. Поэтому многие, трактуя демократию то как норму, то как систему социальных ценностей, то как набор выборных процедур и принципов, отмечают факты их нарушения. Рассматривая демократию как систему институтов и политических организаций, констатируют в них кризисные тенденции. Понимая демократию как систему участия народа в управлении обществом путем выборов и т. д. и т. п., наблюдают отдаление народа или его отстранение от демократических институтов. По-видимому, даже при таком одно- или малоаспектном подходе авторы осознают его ограниченность и готовы признать, что демократия – одновременно единый и неразделимый в социальной практике комплекс всех возможных аспектов ее проявления.
Не являясь исключением и учитывая эту социально-практическую ограниченность и мно-гоаспектность демократии, автор не намерен давать всеобъемлющую трактовку демократии, признавая многоаспектность и противоречивость ее современных трактовок. Предполагается давать, в основном, анализ демократии с позиций мало представленного в теоретической социологии управленческого и социально-результативного аспекта. В дальнейшем, с позиций «реалистического утопизма» попытаться представить гипотетическую идею позитивного социального уровня общества, где демократия проявляет себя не как «власть народа», а как власть ДЛЯ народа. Именно социальный аспект, на наш взгляд, все-таки является базовым по отношению ко всем другим аспектам, если рассматривать демократию как макросоциальный и макроисториче- ский феномен, возвышающийся в своей всесоциальной результативной значимости над текущей доминацией процедурных конъюнктурно-политических или иных аспектов. Демократию лучше понимать как социальный образ жизни, в котором потенциально учитывается все, что влияет на условия жизни людей; демократия – это ценность и процесс, которые могут влиять на все аспекты общественной жизни (Hutchinson, Colon-Rios, 2007: 38).
Автор солидарен с позицией Г.Д. Гурвича, утверждавшего, что «будущность демократии в ее «многопланности» и универсальности, в ее проникновении во все новые области человеческих отношений, в ее выходе за пределы одной лишь политической организации (Гурвич, 2000: 46). Следует также подчеркнуть, что в рамках политизированных и морализаторских аспектов демократии, действительно имеющих важность в конкретных социальных практиках, часто исследование склонно уходить от сущностного рассмотрения этого феномена, прежде всего, как социального. Правда, у П. Бурдье мы встречаем высказывание о том, что цель демократической деятельности – «обеспечить счастье всех граждан» (Бурдье, 1999: 119).
Какие бы формы не принимала современная демократия, в любом случае она сохраняет свою сущность, заключающуюся в стремлении к исполнению, прежде всего, социальных по содержанию и целям регулятивно-управленческих функций. Именно эти функции, устойчиво проявившиеся на протяжении человеческой истории, придают демократии свойство естественной исторической социальной институциональности.
Еще в первобытных и древних формах демократия возникла естественным путем именно как необходимость социально-управленческого характера, как соответствие императиву физического, а потом и социального выживания. Под влиянием жизни, путем проб и ошибок, люди приходили к различным формам процедурной демократии в истории человечества там и тогда, где и когда возникал естественно исторический императив эффективной регуляции общественных взаимоотношений и принятия социально значимых решений и имелись соответствующие условия социального и экономического характера. Так, например, совещательная процедура демократии появилась естественным , неосознанным, опытным путем еще в первобытном мире и, по-видимому, вначале носила характер ритуального собрания, обеспечивающего успех на охоте. Объективный же императив этой процедуры связан с пространственно-временной ограниченностью отдельного индивида, с его индивидуально ограниченной информацией, опытом и с функциональной ограниченностью сознания. Только собрание и коллегиальная форма обсуждения, сопоставления информации и сравнения опыта и точек зрения других позволяли принять более или менее правильное решение и добиться успеха на охоте в интересах большинства. Впоследствии совещательная процедура приобрела различные формы представительной демократии, т. к. в процессе укрупнения человеческих общностей собрание всех физически стало невозможным. Как видим, этот объективный императив совещательной процедуры демократии сохранился по настоящее время и, вероятно, будет существовать в будущем.
Таким образом, социально-историческая естественность демократии связана с двумя базовыми факторами - антропо-социальным и информационно-управленческим (организационным). Функциональный результат при этом, какие бы процедуры ему не предшествовали, выражался в тех или иных формах и уровнях социального блага. В конечном счете, критерий «естественности» демократии, как и любой другой системы общества, задается социальными потребностями, вытекающими из социально-природных характеристик человека. Это исходный критерий и показатель естественности. По данному показателю можно судить, насколько эффективно системы демократии способны учитывать, прежде всего, во-первых, информацию о социо-природной среде, о социальных показателях, потребностях и алгоритмах человеческого благосостояния и, во-вторых, сформировать особый механизм обратной связи, который способен помочь смягчить недостатки человека в системе конструктивных взаимодействий в обществе. Ибо сам человек в информационной системе обратной связи действует пока с весьма низкой степенью адекватности в понимании социальных процессов и, следовательно, с низкой эффективностью влияния на эти процессы. Следовательно, одним из главных факторов в данном случае является человеческий фактор во всех его не только позитивных, но и негативных проявлениях, а также информационный фактор. Поэтому адекватность, соответствие демократических систем общества этим требованиям понимания и формирует их способность к эффективной регуляции и социальной адаптации.
Уже давно, еще в древних формах государств, демократия, постепенно возникшая как естественная социальная потребность, стала утрачивать значительную часть естественности (вероятно, уже и в древней Греции) из-за деформаций под влиянием произвольного и некомпетентного вмешательства людей. И сейчас современные системы демократии содержат в себе значительный элемент искусственности и мы вправе ставить вопрос о необходимой степени развития не только компетентности, но и всех человеческих качеств, необходимых при вмешательстве в управление обществом.
В естественно сложившихся, путем эволюции, системах общества с достаточно давних времен мы наблюдаем попытки «социальной селекции», т. е. совершенствования или приведения данных общественных систем к удовлетворению социальных потребностей человека, социальных классов или групп различного толка. Достигнутый диапазон возможностей такой «социальной селекции» значительно меньше по сравнению с возможностями, приобретенными человеком относительно естественно-природного мира. Идея Г. Саймона – овладевать «наукой конструирования систем» путем изучения их естественно-закономерного базиса – не нашла еще должного развития при решении задач «социальной селекции» или, как принято сейчас говорить, «социальной инженерии» (Саймон, 2004).
Таким образом, в ходе социального конструирования, социально ориентированных демократических систем, мы должны следовать определенным принципам и формам моделирования, не противоречащим базисным социально ориентированным механизмам и социальной природе демократии.
Архетип исторически традиционной демократии и до настоящего времени все чаще проявляется формально, внешне , в многочисленных процедурах. «Америка наших дней, – писал Ч. Миллс, – является в значительно большей мере формальной политической демократией, чем социальной демократией, причем даже пружины формальной политической демократии действуют в ней слабо (Миллс, 1959: 377). Сейчас уже упоминавшийся нами феномен элитизма в демократии в условиях геополитической конкуренции явился фундаментом для дальнейшей редукции демократии даже в традиционно демократических странах, разумеется, при сохранении демонстративной демократической риторики и деформированных формальных демократических процедур.
Теперь уже в XXI в. мы наблюдаем, как «заряженная» большими деньгами, оторванная от народа «демократическая» элита США и других стран, осуществляет политику такого низкого качества, что это угрожает их реноме настоящих демократий. Известный американский профессор Нью Йоркского университета Рональд Дворкин в названии своей книги задает вопрос: «Возможна ли демократия здесь?» и уже в самом ее тексте задает также содержащий сомнение вопрос: «Демократична ли Америка?» (Dvorkin, 2008: 14).
Очевидно, что по факту формальная, декларативная процедурная демократия в современном обществе не дает необходимых социальных результатов. Так, например, в Советском союзе внешние организационные процедуры демократии не реализовывали во всей полноте ее сущностную социальную и управленческую функцию. Но степень целостности и устойчивости демократических систем в значительной мере зависят от реальных, а не приписываемых интегративных (системообразующих) свойств и качеств. Современные энтропийные процессы в демократических системах вызывают у многих глубокий социальный пессимизм относительно демократии. Многие исследователи за рубежом утверждают, что налицо «кризис доверия» и «глубокая тревога» по поводу ограниченного доверия к демократии и ее авторитету (Hutchinson, Colon-Rios, 2007: 1). Действительно, в одних сообществах мы уже наблюдаем массовую интеллектуальную и социокультурную деградацию, в других, наоборот, еще пока не достаточно высокий уровень социокультурного развития для реальной демократии. Деградация демократии в реальной политике стала фактом современности. Базовые причины этого кроются, во-первых, в непонимании или неприятии (прежде всего, практиками политики и экономики) важности учета социальных, глубинных интересов в обществе. Во-вторых, в нежелании, в силу личных амбиций и самонадеянности и, следовательно, неумении осуществлять этот учет в реальной, текущей социальной практике. И, в-третьих, отсутствием широко распространенной положительной стратегической нравственной позиции , а значит, и социальной ответственности, из чего и произрастают все два вышеназванных фактора.
Сформировался порочный круг, пути выхода из которого предлагаются различными авторами с различных, чаще всего поверхностных, позиций, где основные мысли связаны с обобщенным декларативным подходом: «как должно быть», чтобы демократия была эффективной. Предлагаются рутинные вещи, например, «верховенство закона», «минимизировать произвол в госаппарате» и т. п. (Петтит, 2016), ожидать смены поколений (Modelsky, 1987; Turchin, 2003), перейти к так называемой «пост-демократии» (Крауч, 2010) и все это без конструктивной конкретики и технологий, без комплексной, поэтапной реализации более совершенной системы не части, а всего общества. Кстати, в рамках общей идеи постдемократии, как перехода «к некоей более гибкой форме политического реагирования», К. Крауч видит выход «за рамки идеи народовластия» (Крауч, 2010: 37), поскольку «в эпоху пост-демократии политики имеют дело с запутавшейся общественностью, пассивной в смысле выработки собственной повестки дня» (Крауч,
2010: 38). Действительно, рассчитывать демократии на достаточно полно представленные позитивные характеристики и качества людей в современном обществе не приходится. Уже давно значительная часть ученых обращали внимание на эту проблему. Например, в трудах Н. Бердяева мы видим весьма критическое отношение к буржуазной демократии, «в скептический век, век безверия, когда народы утеряли твердые критерии истины и бессильны исповедовать какую-либо абсолютную истину» (Бердяев, 2012: 578).
В рамках данной статьи автор, при всей своей критичности, не претендует на всеохватывающую картину выхода из создавшегося положения. Общество и демократия, как социальный феномен, весьма сложны для этого.
Можно лишь попытаться с позиций « реалистического утопизма» наметить некоторые концептуальные фрагменты , базовые векторы пути, скорее, к будущей демократии социального результата , чем к привычной демократии исторически сформировавшихся процедур.
В современных непростых условиях проблемы демократии диктуют «необходимость заново переосмысливать и определять это явление (Вакулова, Матросов, 2017: 53). Как уже отмечалось, прагматическая функция демократии потенциально выступает в качестве технологии управления эффективным и сбалансированным в масштабах всего общества производством и распределением, в конечном счете, всего социального комплекса общественных благ. То есть речь идет о комплексном социальном эффекте, который должна обеспечивать демократия. Что это значит?
Социальный эффект «имеет определенную ценность как понятие и как практический результат в жизни общества - это совокупность природных, материально-вещественных, экономических, духовно-культурных, политических, социальных и других условий, обеспечивающих (или не обеспечивающих) достойный, комфортный образ жизни и благосостояние людей »1 (Сивиринов, 2022: 35).
Информация и демократия . Внутренняя логика демократии всегда содержала в себе ключевой регулятивный механизм обратной связи. Если посмотреть в функциональную сущность демократии, то можно констатировать, что именно ради обратной связи, обеспечивающей ту или иную согласованность внутриобщественных социальных интересов, формировались ее информационные и организационно-управленческие и процедурные структуры. Но в современных организационных формах и процедурах демократии, при часто проблемных качествах человека, обратная связь не выполняет функций сбалансированности и эффективного взаимного учета социальных интересов общественных групп. Необходимо переосмысливать и формировать хотя бы параллельно новый механизм демократического процесса, стремящийся больше к его социальному результативному содержанию, чем процедуре. В этой связи справедливо утверждение Э. Тоф-флера о том, «чтобы взять на себя контроль над ускоренными переменами, нам понадобятся еще более передовые – и более демократичные – механизмы обратной связи» (Тоффлер, 2002: 517).
Информационно-когнитивный аспект обратной связи в процессе демократии представляет собой не только движение информации о состоянии объекта к управляющему центру, но и способность к адекватному пониманию этой информации в самих управляющих структурах. Но позволим утверждать, что, поскольку информационный процесс в контуре обратной связи является решающим, то не так важно, проходит ли этот процесс в традиционных процедурных рамках демократии или он осуществляется просто с помощью системы современных информационных цифровых технологий в различных формах централизованного управления. Поэтому новой модели демократии необходима альтернативная технология обратной связи. Обратная связь, как получение необходимой информации о социальных интересах и потребностях общества и последующий их адекватный учет в управлении, во многих ситуациях (не всегда) может осуществляться и без демократических процедур.
Возникает возможность централизованной модели демократии. Когда речь идет об информационном обществе, центры принятия решений, используя информационные технологии, технически способны получать и анализировать всю необходимую информацию. Ведь имея обширную базу данных, включающую демографические показатели и иные социальные индикаторы, можно получать достаточно точную картину характеристик населения, его потребностей и интересов. Тогда «проблематика эффективного управления связывается с анализом новых информационных технологий принятия и реализации управленческих решений» (Барциц, 2013: 115). Обратная связь, как комплексный процесс, обеспечивающий не только техническое получение формализованной информации о состоянии общества, но и адекватное, эффективное принятие решений на основе этой информации в социальных сферах и аспектах жизни общества, тоже нуждается в организационном совершенствовании и развитии. Если говорить о содержании организационного механизма, то «в будущем представители социальных наук должны предложить новые небюрократические методы управления, которые характеризуются эффективной реакцией на интересы людей и ситуации без механического применения привычных застывших правил» (Fromm, 1976: 231).
Власть для народа - условия и факторы . Поскольку демократия в ее современном понимании, как полноценного участия всех или большинства в управлении, на практике нереализуема, то власти народа, в прямом значении этого выражения, не бывает. Эрих Фромм мечтал о такой возможной демократии, при которой «интересы общества для каждого человека будут также важны, как и его личные дела или, скорее, при которой общее благо будет воспринято каждым гражданином как главный собственный интерес» (Fromm, 1976: 224). Новый формат демократии, как принципа, не должен замыкаться в узком наборе процедур. Ее различные управленческие формы процедуры и структуры могут быть приняты и оправданы, если они действительно выполняют главную функцию – распространения всех благ общества и в интересах общества.
Новая идея власти «социального демократического» содержания – это, скорее, не власть, которую якобы осуществляет народ, а власть и управление для народа и в интересах народа. Таким образом, эта формула « власть для народа», реализуемая на практике, позволяет если не убирать, то пока не придавать первичного значения процедурным элементам, которые во всем современном мире не функционируют эффективно. Предпочтительна логика централизованного, демократически наполненного по сущности и содержанию управления, ориентированного информационными системами, своей обратной связью на социальные интересы большинства общества. Возможна ли при этом авторитарная тенденция? Если брать во внимание качество современного наличествующего человеческого ресурса во власти и обществе, то, разумеется – возможна. Но и эта тенденция, в формате централизации, сегодня вполне может быть частично принята при условии ее ориентации в сторону, в определенной степени, более социального общества, содержащего вектор все более социализированной демократии при позитивной динамике наличествующих условий. Н. Бердяев замечал, что «демократия слишком задерживается на формально бессодержательном моменте свободы выбора (Бердяев, 2012: 582). При этом следует заметить, что М. Вебер, будучи ученым-реалистом, в противовес выборам считал более приемлемым процедуру назначения и что «формальное существование выборов не означает, что за ними не скрывается назначение». Не избранный, а назначенный «с технической точки зрения функционирует точнее», т. к. при назначении чаще учитываются «чисто профессиональные качества и оценки» (Вебер, 2016: 34).
Следует заметить, что даже в этой несовершенной ситуации мы не исключаем необходимость процедурного выборного (пусть формального), демократического опыта населения при любой степени развитости демократического процесса. Опыт демократической практики позволит формировать демократическое сознание населения, которое в своей сущности связано больше с морально-нравственными качествами человека, чем с внешним принуждением к процедурам. Параллельно, в рамках реконструирования новых демократических систем и социо-инженерной деятельности, необходимо, прежде всего, трансформировать организационно-управленческую часть демократии, ориентировав ее на социальный результат.
Разумеется, при условии, если интеллектуальный, организационный и информационный ресурс достаточны, то можно рассчитывать на определенную устойчивость и, самое главное, поэтапную модификацию создаваемых демократических систем со значительным социальным эффектом.
Переход к модификации демократии развитого социального общества непосредственно связан с человеческим фактором. Еще в ХХ в. Аурелио Печчеи верно понял, что проблема общества «в самом человеке, а не вне его, поэтому и возможное решение ее связано с ним; и отныне квинтэссенцией всего, что имеет значение для самого человека, являются именно качества и способности всех людей (Печчеи, 1985: 73).
Реализация идеи «демократии социального результата» напрямую связана с нравственностью, с созданием общества нового типа. Новые формы демократии требуют и новых общественных отношений, и новых людей. В этой связи хочется обратиться к идеям статьи А. Этциони с красноречивым названием «Демократии недостаточно». Прежде всего, американский автор подчеркивает важность нравственного компонента в пространстве демократии «свободных обществ». «Нравственный порядок, – пишет А. Этциони, – требует даже большего, чем создание сложной структуры добровольных ассоциаций и гражданского общества» (Этциони, 2005: 13). Большое значение автор придает учебным заведениям «в укреплении социального порядка» и далее – «принципиально важно включать в учебные планы предметы, направленные на воспитание личности (character education), и проводить соответствующую переподготовку учителей (Этциони, 2005: 14). В другой книге «Третий путь к хорошему обществу» отмечается высокая ценность доверия как условия общества с новыми отношениями. «Доверие является ключевым элементом отношений, основанных на достижении целей» (Этциони, 2000: 51).
Некоторые выводы . Обращение к весьма критическим выводам многих зарубежных авторов лишний раз подтверждает, что мы имеем дело с процессом мирового масштаба.
Если принять во внимание древность возникновения феномена демократии, то ее нынешние основные процедурные формы в принципе не изменились. Налицо исчерпанность и утрачивающая позитив функциональная архаичность феномена демократии классово иерархичного общества. При сохранении пока формальных, декларативных элементов либеральной демократии наблюдается «всеохватывающий» процесс исчерпания демократии и «в долгосрочной перспективе нам следует ожидать энтропии демократии» (Крауч, 2010: 27). В перспективе будущего возможна редукция процедурного аспекта демократии, хотя, например, совещательная, дискуссионная процедура демократии может остаться. Разумеется, при этом общество не должно быть отягощенным неоправданными амбициями как со стороны централизованной власти, так и со стороны населения.
Более реалистично рассматривать демократию не столько как власть, а как административные полномочия и управление для народа и в интересах всего народа (никого не исключая). Эта формула позволяет не убирать совсем, а пока отодвинуть процедурный элемент, который во всем современном мире не функционирует эффективно, на второй план. При этом еще раз отметим, что автор ни в коей мере не ставит под сомнение важность практики демократических процедур в современной России, ибо она выступает в качестве вполне доступной формы и опыта проявления и воспитания гражданской активности всего населения. В долгосрочной перспективе будущего предпочтительна логика организационно-централизованного демократического управления общества нового типа, ориентированного на социальные интересы всего населения.
Список литературы Зачем демократия? Феномен демократии, ее социальный смысл и модификация как идея будущего
- Барциц И.Н. Конституционная демократия – это свободные выборы плюс интернетизация всей страны // Социологические исследования. 2013. № 9. С. 112–119.
- Бердяев Н.А. Философия неравенства. М., 2012. 624 с.
- Бурдьё П. Социология и демократия // Поэтика и политика: альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. М.; СПб., 1999. С. 119–124.
- Вакулова Т.В., Матросов М.А. К вопросу о демократии: определения и основные принципы // Гуманитарная парадигма. 2017. № 3. С. 50–62.
- Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 т. / пер. с нем.; сост., общ. ред. и предисл. Л.Г. Ионина М., 2019. 544 с.
- Гидденс Э. Социология. М., 1999. 703 с.
- Горшков М.К., Петухов В.В. Перспективы демократии в России: угрозы реальные и мнимые // Социологические исследования. 2004. № 8 С. 23–32.
- Гурвич Г.Д. Будущность демократии // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. Т. III, № 1. С. 34–53.
- Крауч К. Постдемократия / пер. с англ. Н.В. Эдельмана. М., 2010. 192 с.
- Миллс Р. Властвующая элита. М., 1959. 545 c.
- Петтит Ф. Республиканизм. Теория свободы и государственного правления / пер. с англ. А. Яковлева; предисл. А. Павлова. М., 2016. 488 с.
- Печчеи А. Человеческие качества. 2-е изд. М., 1985. 312 с.
- Саймон Г. Науки об искусственном. М., 2004. 144 с.
- Сивиринов Б.С. Социум как социальная реальность: категориальная версия // Теория и практика общественного развития. 2022. № 11. С. 32–37. https://doi.org/10.24158/tipor.2022.11.4.
- Тоффлер Э. Шок будущего / пер. с англ. М., 2002. 557с.
- Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность: лекции и интервью. М., 1992. 176 с.
- Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия / пер. с англ. М., 1995. 539 с.
- Этциони А. Демократизации недостаточно. Россия в глобальной политике. 2005. Т. 3, № 2. C. 12–14.
- Bobbio N. Die Zukunft der Demokratie. Berlin, 1988, 183 s. = Боббио Н. Будущее демократии. Берлин, 1988. 183 с. (на нем. яз.).
- Buse G., Swartz D. Symbolic Power, Politics, and Intellectuals: The Political Sociology of Pierre Bourdieu // Canadian Journal of Sociology. 2014. Vol. 39, no. 1. Рp. 114–116. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226925028.001.0001.
- Dvorkin R. Is Democracy possible here? Principles for a New Political Debate. Princeton, 2008. 192 p.
- Etzioni A. The Third Way to a Good Society. London, 2000. 63 p.
- Ferry L. La Révolution transhumaniste. Comment la technomédecine et l’ubérisation du monde vont bouleverser nos vies. Paris, 2016. 189 р. = Ферри Л. Трансгуманистическая революция. Как техномедицина и модернизация мира перевернут нашу жизнь с ног на голову. Париж, 2016. 189 с. (на фр. яз.).
- Fromm E. Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft. Stuttgart, 1976. 257 s. = Фромм Э. Иметь или быть. Духовные основы нового общества. Штутгарт, 1976. 257 с. (на нем. яз.).
- Hutchinson A.C., Colon-Rios J.I. What’s Democracy got to do with it? A Critique of Liberal Constitutionalism // Comparative Research in Law and Political Economy. 2007. Vol. 03, no. 04. Pp. 1–49.
- Modelsky G. Exploring Long Cycles. New York, 1987. 277 p.
- Seitz K. Demokratie und Zivilgesellschaft unter Druck. Anzeichen und Hintergründe einer weltweiten Krise // ZEP: Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik. 2019. 42. Н. 1. S. 4–10. = Зайц К. Демократия и гражданское общество под давлением. Признаки и предпосылки глобального кризиса // ZEP: Журнал международных исследований в области образования и педагогики развития. 2019. 42. № 1. С. 4–10. (на нем. яз.) https://doi.org/10.25656/01:21291.
- Turchin P. Historical Dynamics: Why States Rise and Fall. Princeton, 2003. 245 p.