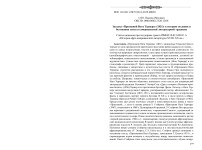Загадка "Признаний Ната Тернера" (1831): к истории создания и бытования текста в американской литературной традиции
Автор: Панова Ольга Юрьевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 2 (49), 2019 года.
Бесплатный доступ
«Признания Ната Тернера» (1831), записанные Томасом Греем в тюрьме со слов предводителя виргинского восстания рабов накануне его казни, -один из самых интригующих текстов в истории американской словесности. Он отличается жанровым синкретизмом: в нем присутствуют признаки разных видов (авто)биографических повествований - признаний преступников, духовной автобиографии, невольничьего повествования, а также проповеди и сенсационной журналистики. Совместное произведение повествователя (Ната Тернера) и его стенографа и редактора (Т. Грея) порождает серьезные и труднорешаемые проблемы, связанные с авторством и аутентичностью текста. В «Признаниях Ната Тернера» стратегии рассказчика и его «стенографа» Томаса Грея подчеркнуто различны; создается амбивалентный портрет Ната Тернера, который предстает то как мрачный фанатик и кровожадный убийца, то как пророк-духовидец и борец за свободу. Жанровое, тематическое и стилистическое своеобразие «Признаний Ната Тернера» во многом объясняет значимость этого текста для американской литературной традиции. В романе Г. Бичер-Стоу «Дред, история о Великом мрачном болоте» (1856) Тернер стал прототипом бунтаря Дреда. Легенду о Нате Тернере исследовал выпускник Гарварда, унитарианский пастор, аболиционист Томас Уэнтворт Хиггинсон (1823-1911), пытавшийся восстановить исторические факты и нарисовать портрет черного бунтаря. В ХХ в. в числе прочих к образу Тернера обратился Роберт Хейден, сложивший «Балладу о Нате Тернере» (1962). Присутствие двух резко отличных стилей и повествовательных манер в тексте «Признаний.» легло в основу романа У. Стайрона «Признания Ната Тернера» (1967), отмеченного в 1968 г. Пулицеровской премией. У Стайрона Нат предстает как персонаж с раздвоенной личностью, «чернокожий Гамлет», страдающий от невозможности совместить в одном человеке проповедника и полководца, мистика и политического лидера. Роман писателя-белого южанина, вышедший в разгар «черной революции» 1960-х гг., спровоцировал гневную реакцию афроамериканских радикалов-шестидесятников В защиту романа выступили крупные афроамериканские писатели Р. Эллисон, Дж. Болдуин, известный историк Ю. Дженовезе. Полемика вокруг романа Стайрона продолжалась и в постшестидесятнической афроамериканистике (У Эндрюс, Г.Л. Гейтс-мл.). Стайрон привлек внимание к исходному тексту, «Признаниям Ната Тернера», записанным Т. Греем в 1831 г., и спровоцировал взрыв интереса к полузабытому жанру невольничьих повествований. Книга Стайрона стала импульсом для исследовательского «бума» вокруг повествований рабов в афроамериканистике и для появления и расцвета в афроамериканской литературе рубежа XX-XXI вв. жанра «нео-невольничьих повествований».
История литературы сша, афроамериканская литература, признания преступников, духовная автобиография, невольничьи повествования, "признания ната тернера", у стайрон
Короткий адрес: https://sciup.org/149127163
IDR: 149127163 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00050
Текст научной статьи Загадка "Признаний Ната Тернера" (1831): к истории создания и бытования текста в американской литературной традиции
«Признания Пата Тернера» [The Confessions 1831], записанные в тюрьме со слов предводителя знаменитого кровавого виргинского восстания рабов в ночь накануне казни, - один из самых интригующих текстов в истории американской словесности. Он отличается жанровым синкретизмом: в нем присутствуют признаки разных видов (автобиографических повествований - признаний преступников (criminal confessions), духовной автобиографии, невольничьего повествования (slave narrative), а также черты проповеди и сенсационной журналистики.
«Признания Пата Тернера», будучи наиболее известным образцом жанра признаний преступников (подробнее см. [Панова 2014]) и сохраняя «несущие элементы» канона, содержит и новаторские моменты: текст отличается необычной тематикой (бунт рабов) и нетипичным главным персонажем: он не просто преступник, убийца или вор, но бунтовщик, лидер восстания. «Признания...» имеют рамочную композицию: вступление и заключение написаны от лица Томаса Грея, адвоката, посетившего осужденного перед казнью и взявшего у него предсмертное «интервью»; основной текст составляют записанные Греем слова Тернера. В XVIII - первой половине XIX вв. число неграмотных или не владевших литературными навыками чернокожих повествователей превышало число тех, кто был в состоянии самостоятельно записать и подготовить рукопись к изданию. В силу этого, создание произведения предполагало сотрудничество повествователя и его помощника - стенографа и редактора, который порой довольно активно вмешивался в текст, приводя его в соответствие с принятыми жанровыми, идейными, стилистическими конвенциями. Совместная работа повествователя и помощника порождает серьезные и труднорешаемые проблемы, связанные с авторством и аутентичностью текста; они встают в связи с подавляющим большинством повествований, входящих в корпус ранней (XVII-XIX вв.) афроамериканской литературы (см. об этом, например, классическую монографию крупного исследователя афроамериканских (автобиографических повествований У.Л. Эндрюса [Andrews 1986]).
Обычно в изданиях повествований в качестве дополнения давалась информация о форме и степени участия создателей текста - автора и его помощника-стенографа (amanuensis), записывавшего текст. Повествования могли быть «написаны собственноручно» (written by himself/herself), «рассказаны / продиктованы самолично» (related/dictated by himself/herself), «записаны с его/ее слов» помощником-стенографом, «отредактированы»
(revised by) - когда стенограф выступает и в качестве редактора. В зависимости от функций и степени участия в создании текста помощник мог быть собирателем текстов (как, например, журналисты и прочие любители, записывавшие предсмертные признания осужденных), редактором, соавтором или просто секретарем, пишущим под диктовку
В «Признаниях Пата Тернера» стратегии рассказчика и его «стенографа» Томаса Грея подчеркнуто различны. Более того, резко отличаются друг от друга вступление и заключение, написанные Греем от себя. Во вступлении в соответствии с требованиями жанра Грей стремится заинтриговать публику: потрясающие воображение события кровавого восстания требуют сенсационного письма. Играя на чувствах аудитории, Грей прибегает к эмфазе, уснащает текст разными средствами экспрессивности. Вступление пестрит выражениями, вроде «величайший бандит», «лютая банда», «кровавые деяния», «адские замыслы», и патетическими фразами, например: «...многие матери, прижимая возлюбленных чад к груди, будут содрогаться при воспоминании о Нате Тернере и его банде свирепых злодеев» [The Confessions 1831, 3-4, 5]. Нат Тернер в предисловии нарисован исключительно черной краской - он предстает как «мрачный фанатик» (gloomy fanatic), открывающий в предсмертных признаниях «глубины своего темного, заблудшего, измученного ума» [The Confessions 1831,4]. Поскольку аудитория требовала от повествований достоверности и правдивости, Грей подчеркивает искренность осужденного и отсутствие самооправданий.
В послесловии же возникает сложный, амбивалентный образ Пата. Здесь Грей описывает его как выдающуюся личность, отмечая его необыкновенные качества, возражая против попыток представить его примитивным, невежественным, трусливым и дегенеративным недочеловеком. Грей отмечает его религиозность, отсутствие пороков и пристрастий (Нат никогда не выпил ни капли спиртного, не сквернословил, был бессребреником). Грея поражает «выдающийся», «необыкновенный», природный ум Пата, способность «все схватывать на лету, которая встречаются у очень немногих людей», решительность и твердость характера; он отмечает, что Тернер умеет читать и писать [The Confessions 1831, 18]. Нат вызывает у Грея чувство, похожее на уважение и даже восхищение. Вместе с тем, Грей повторяет, что Нат - «законченный фанатик», уверенный в своей правоте, отмечает неадекватность его эмоциональных реакций - хладнокровие, с которым он повествует об учиненной им резне, и «исступленное выражение» лица [The Confessions 1831, 19]. Масштаб личности как самого Ната, так и его злодеяния отличают текст Грея от классических признаний преступников. Об убийствах и зверствах во время бунта Грей в заключении пишет с мрачной патетикой («изуверская», «невиданная», «бесчеловечная резня» [The Confessions 1831, 19]). Грей обращается здесь к широко распространенной в американской словесности применительно к небелым расам топике кровожадного дикаря, - однако напрямую этого именования удостаиваются сообщники Ната, но не сам «мрачный фанатик».
Собственно повествование Ната Тернера, записанное Греем, отчетливо распадается на две части. Первая строится на основе жанрового канона духовной автобиографии (об афро-американской духовной автобиографии см. [Панова 2012]) в сочетании с элементами невольничьего повествования: рассказчик скупо дает событийную канву своей жизни (смена хозяев, первый неудавшийся побег и т.д.), «разбавляя» редкими фактами подробное повествование о своей насыщенной духовной жизни. Тернер подчеркивает свою глубокую религиозность, провиденциальность своей судьбы, знание своего призвания, которое было явлено ему с младенчества. Уже в 3-4 года он открывает некие истины своим товарищам по играм, он с раннего детства убежден, что рожден быть пророком, ибо Господь открыл ему бывшее еще до его рождения [The Confessions 1831, 7]. Повествование о детстве и юности содержит ряд лейтмотивов. Прежде всего, это особое, высшее предназначение Ната, которое подтверждают его родные и все окружающие. О нем свидетельствуют и метки на теле (традиционный мотив), и необыкновенные дарования, проявившиеся с ранних лет. Топос «чудо-ребенка» содержит мотивы прозорливости и причастности к высшему знанию, необыкновенного интеллекта и мудрости, не соответствующих возрасту, подвижнического образа жизни (пост, молитва, чтение Писания, размышление), а также прямого общения с духовным миром, духовидчества. Сквозной для всей ранней афроамериканской литературы топос стремления к грамотности, образованию присутствует в повествовании своеобразно, сливаясь с топикой чуда: Пат овладевает грамотой чудесным образом, в силу откровения.
Первая часть повествования также заполнена рассказами о чудесах, а также о духовидчестве, видениях, откровениях - еще один топос, утвердившийся в афроамериканской литературе и бытующий в ней на протяжении не только XIX, но и XX века. (Среди многочисленных примеров использования этого топоса в афроамериканской литературе XX в., например, беллетризованная автобиография Зоры Н. Херстон «Следы на пыльной дороге» / Tracks on a Road, 1942 и роман Р. Эллисона «Невидимка» / Invisible Мап, 1952). В «Признаниях Ната Тернера» в числе прочих особенно примечательна история о чудесном исцелении Налом белого -Этельдреда Брентли [The Confessions 1831, 11]: она согласуется с важным для повествования лейтмотивом несоответствия дарований, высшего предназначения Ната - и его рабского удела. Эта мысль выражена в тексте не только косвенно, но и эксплицитно: ссылаясь на мнение своего хозяина и других членов религиозной общины, Нат дважды дословно повторяет фразу о том, что из-за его удивительных способностей «в качестве раба от него нет никакого проку» [The Confessions 1831, 8, 9].
Рассказы о видениях, голосах и явлениях духов наполнены библейской образностью, в особенности апокалиптической, - например, видение огромных толп, окружающих Голгофу, распятого Христа, видение крови Спасителя в виде росы, падающей на землю [The Confessions 1831, 10]; 12 мая 1828 г. (дата видения указана точно) Нат слышит с небес «великий шум» и глас, объявляющий что «древний змий выпущен на волю, Христос сложил иго, которое он нес для искупления людей», и теперь Нат должен «взять его иго и воздвигнуть брань на змия» [The Confessions 1831, 10, 11]. Библейско-апокалиптические откровения несут в себе и прозрачный аллегорический смысл, касающийся расовых отношений и миссии Ната как главаря восстания: «.. .мне было видение - и я узрел белых духов и черных духов, ведущих между собой брань, и вот, солнце померкло, и гром прокатился по небесам, и потекли реки крови - и услышал я глас, вещавший: “Се, твоя победа, и ты призван узреть ее, и да придет она, трудная или легкая и ты сделаешь ее явной”» [The Confessions 1831,10]. Началу восстания предшествует знамение - солнечное затмение в феврале 1831 г.
Стиль второй части, где рассказывается о бунте и кровавой резне, учиненной восставшими, резко контрастирует со стилем первой половины повествования Ната. Фразы становятся короткими, рублеными, рассказ - лаконичным и конкретным; повествователь ограничивается точным, сухим перечислением событий. Контраст между прозаичным стилем и жутким содержанием рассказа сообщает повествованию экспрессивность и обеспечивает сильное эмоциональное воздействие.
Жанровое, тематическое и стилистическое своеобразие «Признаний Ната Тернера» во многом объясняет значимость этого текста для американской литературной традиции [Greenberg 2003]. В романе Г. Бичер-Стоу «Дред, история о Великом мрачном болоте» (1856) Тернер стал прототипом бунтаря Дреда. Легенду о Нате Тернере исследовал выпускник Гарварда, унитарианский пастор и аболиционист Томас Уэнтворт Хиггинсон (Thomas Wentworth Higginson, 1823-1911), бывший командиром негритянского полка в войне Союза и Конфедерации. В своей книге «Путешественники и преступники» (Travellers and Outlaws, 1889) он пытается восстановить исторические факты и нарисовать портрет черного бунтаря (про сюжет о Нате Тернере у У. Хигинсона см. [Cooley 2001, 71-78]). В XX в. в числе прочих к образу Тернера обратился Роберт Хейден, сложивший «Балладу о Нате Тернере» (A Ballad of Nat Turner, 1962).
Присутствие двух резко отличных стилей и повествовательных манер в тексте «Признаний...» легло в основу интерпретации событий в Виргинии 1831 г, предложенной Уильямом Стайроном. В его романе (отмеченном в 1968 г. Пулицеровской премией) «Признания Ната Тернера» (1967) Нат предстает как персонаж с раздвоенной личностью, страдающий от невозможности совместить в одном человеке пророка и полководца, духовидца и политического лидера, религиозного аскета-мистика и бунтаря. Двум противоположным ипостасям натуры Ната соответствуют в романе два разных стиля: язык библейских пророческих книг чередуется с политической риторикой и языком прозаическим, приземленным, конкретным.
Роман У. Стайрона спровоцировал бурную реакцию афроамериканских радикалов-шестидесятников: на писателя, белого южанина, осмелившегося обратиться к этому сюжету в разгар расовой войны в Америке 1960-х гг, обрушилась жесточайшая критика: «гамлетизм», шизофрениче- ская раздвоенность, набожность стайроновского персонажа давали повод обвинить писателя в злостном искажении личности чернокожего бунтаря, «отбеливании» его психики. В дискуссии об исторической достоверности описанного в романе приняли участие крупнейшие чернокожие прозаики Р. Эллисон и Дж. Бодуин, поддержавшие Стайрона, и выдающийся ученый, историк Ю. Дженовезе, автор классических исследований по истории рабства и американского Юга, которому также досталось от чернокожих радикалов (см. [Genovese 1968], [An Exchange 1968], [Clarke 1968]). Когда страсти несколько остыли, среди афроамериканских критиков постше-стидесятнического поколения нашлись те, кто дал положительную оценку роману, - например, гарвардский профессор и медийная знаменитость ГЛ. Гейтс-мл. [Henry Louis Gates 2012], говоря о книге Стайрона, выступил в защиту прав и творческой свободы писателя на выбор сюжетов и на свободную художественную интерпретацию исторических событий.
Несмотря на скандал, возникший вокруг книги (а может быть, и благодаря ему) роман Стайрона сыграл огромную роль как для становящейся новой дисциплины - афроамериканистики, так и для афроамериканской литературы, переживавшей в это время переломный период. По мнению известного исследователя афроамериканской литературы А. Рушди, именно роман Стайрона и ожесточенная полемика вокруг него привели к ключевой трансформации установок в исследованиях рабства и спровоцировали ренессанс этой темы в афроамериканской художественной литературе [Rushdie 1996].
Стайрон привлек внимание к исходному тексту, «Признаниям Пата Тернера», записанным Т. Греем в 1831 г; за этим последовал взрыв интереса к полузабытому жанру невольничьих повествований, начавшийся с конца 1960-х гг. Именно книга Стайрона стала импульсом для появления и расцвета в афроамериканской литературе рубежа XX-XXI вв. жанра «нео-невольничьих повествований» (см. об этом жанре [Стулов 2012], [Стулов 2010]). До 1967 г. были написаны всего два негритянских романа на эту тему - «Черный гром» (Black Thunder, 1936) Арны Бонтана и «Юбилей» (Jubilee, 1966) Маргарет Уокер. После стайроновских «Признаний Пата Тернера» появилось множество произведений, воскрешающих жанр (авто)биографических невольничьих повествований, в том числе таких известных авторов, как Дж. Оливер Киллене, Эрнст Гейнс, Чарльз Джонсон, Тони Моррисон, Ишмаэль Рид, Ширли Энн Джонсон, Барбара Чейз-Рибу. Как отмечает А. Рушди, «хотя эти романы не являются прямым ответом Стайрону они стали возможны благодаря тому набору интеллектуальных и социальных условий, который сложился в результате полемики вокруг стайроновского романа» [Rushdi 1996, 66].
Возникшая на волне революции 1960-х идеологизированная афроамериканистика также обратилась к полузабытому жанру невольничьих повествований благодаря выходу романа Стайрона. Тогда было заново открыто единственное на тот момент научное исследование этого материала - защищенная еще в 1946 г. в университете Нью-Йорка диссертация Мэрион
Старлинг; в 1980-е гг. она была переиздана в виде монографии [Starling 1981].
Осваивая обширный материал - громадный корпус невольничьих повествований, большая часть которых создавалась в 1830-1850-е гг. как пропагандистская аболиционистская литература, признаний преступников, духовных автобиографий, афроамериканские исследователи в основном смотрели на роль белых стенографов и редакторов как на «помеху», затрудняющую реконструкцию исходного «черного» оригинала. Так, например, Р. Степто в своей классической книге «Из-за завесы...» подразделяет повествования на «интегрированные» («отбеленные», встроенные в господствующую культуру), «эклектичные» и «жанрообразующие» или «родовые», «аутентифицирующие» (свидетельствующие о подлинной оригинальности) [Stepto 1991, XV] - те. более или менее «испорченные» вмешательством белых стенографов, редакторов, соавторов, работавших с чернокожими рассказчиками в ту эпоху, когда только начиналось приобщение негров-рабов к западной книжно-письменной культуре.
Типичную для афроамериканистики интерпретацию «Признаний Пата Тернера» (1831) дает признанный специалист в области афроамериканской биографии У.Л. Эндрюс:
«Повествование описывает становление пророка-бунтаря через акты присвоения (библейских моделей. - ОЛ/у. которые позволили рабу из Саутхэмпто-на, шт. Виргиния, возглавить что-то вроде священной войны против белых, коих он, видимо, рассматривал как врагов Христа. Однако уже название произведения оказывается первым в целом ряде сигналов, указывающих на внутреннюю расщепленность текста, в основе которого лежит соперничество двух противоположных воль к власти... Признания могут исходить от двух радикально отличных друг от друга личностей - глубоко религиозного, набожного человека, обладающего духовным видением, наподобие св. Августина - и глубоко развращенного преступника... Пат Тернер, очевидно, хотел, чтобы его признания читались как духовное завещание, свидетельствующее о его верности своей миссии. Томас Грей... записывает повествование так, чтобы оно читалось как ужасная история религиозного помешательства...» [Andrews 1986, 72].
Далее Эндрюс называет Грея «рабовладельцем, уверенным в своем диагнозе психического состояния Тернера», и говорит о «сатанизации» образа Пата [Andrews 1986, 73, 74-75].
Если у Стайрона двойственность стиля «Признаний...», действительно присущая исходному тексту 1831 г, связана с личностью Пата (Стайрон создает образ сложного, внутренне расщепленного персонажа), то У.Л. Эндрюс объясняет эту стилевую двойственность противоположностью целей соавторов - рассказчика Пата и его стенографа Томаса Грея, записавшего и обработавшего повествование. Кроме этого, в анализе Эндрюса присутствует еще ряд типичных моментов, связанных с характерным для черной постшестидесятнической афроамериканистики неисторическим, идео-

логизированным подходом к материалу черной литературной традиции. Прежде всего, это интерпретация набожности Пата Тернера: у Эндрюса тернеровское христианство подается как воинствующая религия, под знаменем которой ведется священная война против белых - те. христианство Пата становится чем-то вроде «черного ислама» афроамериканских радикалов-шестидесятников. Затем, это идеализация образа Пата как героя и мученика (традиция, начатая радикальным аболиционизмом в противовес религиозному ненасильственному аболиционизму), обличение Грея как «рабовладельца», носителя соответствующей идеологии, и его христианства как мракобесия и орудия угнетения. Наконец, это апелляция к некоему «изначальному смыслу» «черного текста» (имеется в виду гипотетический «первоисточник» - такой, каким он исходил из уст Ната Тернера), «извращенному» белым соавтором. Такое восприятие невольничьих повествований как палимпсеста и стремление восстановить «черный текст», очистив его от «белых напластований и искажений», в высшей степени характерно для постшестидесятнической афроамериканской критики.
«Признания Ната Тернера» - не самый простой материал для анализа генезиса текста и роли соавторов в его создании. Однако даже в гораздо более ясных случаях, когда речь идет о повествованиях черных невольников, записанных аболиционистами, т.е. когда между соавторами был консенсус и их объединяла одна цель, идеологизированный подход афроамериканистики нацелен на отрицание, казалось бы, очевидного историко-литературного факта: именно в процессе сотрудничества чернокожего повествователя и белого стенографа, редактора и/или соавтора, непосредственно происходила передача культурных моделей и их освоение нарождающейся негритянской словесностью.
Список литературы Загадка "Признаний Ната Тернера" (1831): к истории создания и бытования текста в американской литературной традиции
- Панова О.Ю. К истории афроамериканской литературной традиции: жанр признаний преступников в XVIII в. и складывание автобиографического канона // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2014. № 1. С. 101-106.
- Панова О.Ю. «Я восславил Господа»: Джон Маррант и Первое религиозное пробуждение в Америке // Вестник Православного Свято-Тихоновского университета. Серия III: Филология. 2012. № 2. С. 119-134.
- Стулов Ю.В. Жанр нео-невольничьего повествования в современной афроамериканской литературе // Вiсник Львiвського унiверситету. Сер. iнозємнi мови. 2012. Вип. 20. Ч. 2. С. 160-166.
- Стулов Ю.В. «Невольничье повествование» и современный афроамериканский исторический роман // Гуманитарный вектор. 2010. № 4 (24). С. 151-160.
- Andrews W. To Tell a Free Story: the First Century of Afro-American Autobiography, 1769-1865. Urbana; Chicago, 1986.
- Clarke J.H. (ed.) William Styron’s Nat Turner: Ten Black Writers Respond. Boston, MA, 1968.
- The Confessions of Nat Turner, the Leader of the Late Insurrection in South Hampton, Va. as fully and voluntarily made to Thomas R. Gray in the prison where he was confined, and acknowledged by him to be such when read before the Court Of Southampton; with the certificate, under seal of the court convened at Jerusalem, Nov. 5, 1831, for his trial. Also, an authentic account of the whole insurrection, with lists of the whites who were murdered, and of the negroes brought before the court of Southhampton, and there sentenced, &c. Baltimore, MD, 1831.
- Cooley T. The Ivory Leg in the Ebony Cabinet: Madness, Race and Gender in Victorian America. Amherst, MA, 2001.
- An Exchange on "Nat Turner". Anna Mary Wells, Vincent Harding, and Mike Thelwell in response to Eugene D. Genovese The Nat Turner Case from the September 12, 1968 issue // New York Review of Books. 1968. 7 Nov.
- Genovese E.D. The Nat Turner Case // The New York Review of Books. 1968. Sept. 12.
- Greenberg K.S. (ed.) Nat Turner: A Slave Rebellion in History and Memory. New York, 2003.
- Henry Louis Gates Jr. on William Styron’s Controversial Novel. Open Road Integrated Media. 2012. Feb. 21. URL: https://www.youtube.com/watch?v=snLGT7es3qg (дата обращения 20.06.2018).
- Rushdi A. H.A. Reading Black, White and Grey in 1968 // Criticism and the Color Line: Desegregating American Literary Studies. New Brunswick, NJ, 1996. P. 63-94.
- Starling M.W. The Slave Narrative: Its Place in American History. Boston, MA, 1981.
- Stepto R.B. From behind the Veil: A Study of Afro-American Literature. Chicago, IL, 1991.