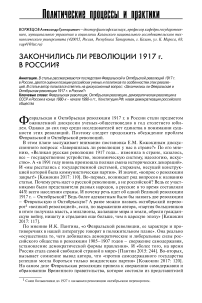Закончились ли революции 1917 г. в России?
Автор: Воржецов Александр Григорьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 8, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются последствия Февральской и Октябрьской революций 1917 г. в России, даются оценки позиции российских ученых и политиков по особенностям этих революций. В статье автор попытался ответить на дискуссионный вопрос: «Закончились ли Февральская и Октябрьская революции 1917 г. в России?»
Февральская революция, октябрьская революция, демократическая революция в ссср и России в конце 1980-х - начале 1990-х гг, конституция рф, новая демократизация российского общества
Короткий адрес: https://sciup.org/170170813
IDR: 170170813 | DOI: 10.31171/vlast.v26i8.6049
Текст научной статьи Закончились ли революции 1917 г. в России?
Ф евральская и Октябрьская революции 1917 г. в России стали предметом оживленной дискуссии ученых-обществоведов в год столетнего юбилея. Однако до сих пор среди исследователей нет единства в понимании сущности этих революций. Поэтому следует продолжить обсуждение проблем Февральской и Октябрьской революций.
В этом плане заслуживает внимание постановка Е.М. Кожокиным дискуссионного вопроса: «Завершилась ли революция у нас в стране?» По его мнению, «Великая русская революция 1917 года… изменила в стране, казалось, все – государственное устройство, экономическую систему, идеологию, искусство». А «в 1991 году вновь произошла полная смена исторических декораций». И «мы расстались с государственной системой, стержнем, несущей конструкцией которой была коммунистическая партия». И значит, «вопрос о революции закрыт!» [Кожокин 2017: 110]. Во-первых, возникает ряд вопросов к названию статьи. Почему речь идет о русской революции, а не российской? Ведь ее участниками были представители разных народов, а русские в то время составляли 44% всего населения страны. И почему речь идет об одной Великой революции 1917 г. – Октябрьской? Ведь более адекватным было бы назвать две революции – Февральскую и Октябрьскую? А разве можно назвать октябрьский перево-рот1 «великой революцией», если, по выражению автора, «партия большевиков в итоге получила власть, а миллионы, желавшие мира и земли, обрели гражданскую войну, нищету и страдания еще больше, чем в царскую эпоху» [Кожокин 2017: 117].
По мнению И.К. Пантина, «о Февральской революции, ее характере и противоречиях в нашей литературе говорят в положительном плане». Она реально «осуществила то, чего добивались демократические и либеральные силы российского общества в революции 1905–1907 годов – свержение самодержавия, установление демократической формы правления». И «более того, на время Россия стала самой свободной страной в мире» [Пантин 2015: 244]. Во-вторых, вызывает сомнение вывод автора, что «против самодержавного государства успешно могла бороться только вождистская партия» [Кожокин 2017: 120]. На самом деле Февральская революция привела к свержению самодержавия и образованию Временного правительства, которое состояло из представителей разных либеральных и социалистических партий (кадеты, эсеры, меньшевики). А в октябре 1917 г. Временное правительство состояло только из представителей социалистических партий (эсеры и меньшевики).
В-третьих, на наш взгляд, следует уточнить вывод автора, что необходимо говорить «о монархизме как особой форме персонификации власти в одном лице», т.к. «революция… не уничтожила монархизм как феномен политической культуры» [Кожокин 2017: 120]. Дело в том, что после Февральской революции монархисты потерпели полный крах. По мнению В.П. Булдакова, «императора никто не поддержал, включая церковь, официальным главой которой он считался» [Февральская революция… 2007: 5]. Поэтому можно сказать, что Февральская революция практически уничтожила монархизм и как феномен политической культуры. А вот самовластие как особая форма персонализации власти в одном лице оказалось более живучим в нашей стране. На протяжении XX в. следует выделить три формы самовластия: самодержавие, советскую форму, президентскую форму. В рамках этих форм необходимо выделить «жесткие» и «мягкие» варианты их реализации. А после «мягких» вариантов самовластия в нашей стране наступали периоды демократизации. Так было в период с Февральской до Октябрьской революции 1917 г. Так было и в период с конца 80-х и до начала 90-х гг. XX в. В настоящее время функционирует «мягкий» вариант президентской формы самовластия.
В-четвертых, трудно согласиться с выводом автора, что «революция во всех ее ипостасях в России завершена» [Кожокин 2017: 121]. Прежде всего, возникает вопрос: какая революция (Февральская или Октябрьская) завершена в России? На наш взгляд, ни та ни другая революции в России не завершены. Октябрьская революция не могла быть завершенной, т.к. модель государственного социализма через 70 лет после Октябрьской революции показала свою неконкурент-ность и потерпела крах. А Февральская революция не могла быть завершенной, т.к. в результате Октябрьской революции был осуществлен антидемократический переворот. В конце 80-х – начале 90-х гг. XX в. произошла демократическая революция, которая привела ко второму после Февральской революции периоду демократизации, в ходе которого были частично восстановлены демократические институты, которые функционировали в период деятельности Временного правительства в 1917 г. (Государственная дума, многопартийность, свобода слова – в политической сфере, частная собственность, конкуренция – в экономической).
Однако Конституция РФ 1993 г. закрепила навязанный вариант трансформации российского общества. В стране установится гибридный (авторитарнодемократический) политический режим. В этом плане трудно согласиться с позицией Е.М. Кожокина по вопросу оценки Конституции РФ 1993 г. Он считает, что «на референдуме была принята конституция, даровавшая огромные полномочия главе государства». И «эти полномочия фактически первый раз в истории России были четко конституционно определены» [Кожокин 2017: 121]. Как они могут быть «четко конституционно определены», если они не вписаны ни в одну из ветвей государственной власти? Не было четкости и при обсуждении и принятии Конституции РФ. Вместо Конституционного собрания проект Конституции обсуждался на конституционном совещании. А Конституция РФ была принята не на референдуме, а всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
И «в итоге политическая система нынешней России оказалась амбивалентной». И «с одной стороны, она вроде бы демократическая, так как ей присущи ключевые признаки демократического строя: всеобщие выборы, разделение властей, двухпалатный парламент, многопартийность, свобода прессы, глас- ность, комплекс гражданских прав, местное самоуправление». А «с другой – эти атрибуты демократии во многом декоративны, придавлены и “обесточены”, поскольку Конституция РФ, принятая в 1993 году, закрепила общественный порядок, тяготеющий к самовластию» [Красин 2009: 27]. На наш взгляд, сказать, какая революция завершилась или продолжается в постсоветское время после принятия Конституции РФ в декабре 1993 г., весьма затруднительно. Конституция РФ 1993 г. не дает однозначного ответа на этот сложный вопрос.
Сама конституция носит противоречивый характер. В гл. 1 «Основы конституционного строя» сформулированы цели российского государства: «Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» (ст. 1) и «Российская Федерация – социальное государство» (ст. 7), а также определяющий принцип демократического государства – принцип разделения властей: «государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную» (ст. 10)1. В гл. 4 сформулированы полномочия Президента РФ. И одним из важнейших является то, что «Президент Российской Федерации… обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти» (ст. 80)2. Президент РФ не включен ни в одну из трех ветвей государственной власти. Статьи гл. 1 Конституции РФ носят демократический характер, а статьи гл. 4 – авторитарный. Гибридная конституция закрепляет гибридный политический режим – авторитарно-демократический. Содержание статей гл. 1 убеждает в том, что в РФ продолжается Февральская революция 1917 г. Цель совпадает – формирование демократического федеративного государства. Однако содержание статей гл. 4 напоминает о том, что продолжается и Октябрьская революция 1917 г. В главе сформулированы функции президентской формы самовластия как преемницы советской формы самовластия.
Следует отметить, что «самоопределение России, выбор вектора развития связан в первую очередь с трактовкой революции 1917 года – главного события российской истории XX столетия». Однако до сих пор в обществе, в экспертных кругах, среди историков нет единства… в оценке ее воздействия на российскую государственность и российский народ». А «солидарного взгляда на события такого масштаба быть не может по определению до тех пор, пока не станет солидарным нынешнее общество» [Комаровский 2017: 9-10]. Однако до такого состояния российскому обществу пока еще далековато. Социологические центры фиксируют значительный разброс оценок Октябрьской революции. По результатам опроса, проведенного в октябре 2017 г. ВЦИОМом, большинство респондентов оценивают последствия Октябрьской революции скорее положительно (38% респондентов согласились, что «она дала толчок социальному и экономическому развитию страны», а 23% – что «она открыла новую эру в истории России»). При этом 13% опрошенных полагают, что «она стала для нашей страны катастрофой», а 14% – что она «затормозила социально-экономическое развитие». А 12% респондентов затруднились с ответом3.
Также значительные расхождения обнаружил опрос, проведенный Левада-Центром в марте 2017 г. Оценки роли Октябрьской революции в российской истории распределились следующим образом: «очень положительная» – 10%, «скорее положительная» – 38%, «скорее отрицательная» – 25%, «крайне отрицательная» – 6%, «затрудняюсь ответить» – 21%. При этом 25% опрошенных выразили согласие с тем, что «революция открыла новую эру в истории народов России», 36% – что «она дала толчок их социальному и экономическому развитию», и только 6% – с тем, что «что она стала для них катастрофой»1.
Следует отметить, что в нашей стране юбилей российских революций 1917 г. прошел удивительно тихо и незаметно. В течение юбилейного года идея «примирения и согласия» не раз фигурировала в выступлениях президента и других высоких должностных лиц. И «властвующая элита выбрала разумную тактику: …уйдя от прямой полемики с оппонентами, она достигла своей цели – юбилей Октябрьской революции удалось провести мирно, без “разжигания страстей”». Однако «данные опросов общественного мнения и весьма скромный вклад юбилея в сложившуюся инфраструктуру памяти о революции (-ях) 1917 года заставляют предположить, что “примирения и согласия” по поводу этого события вряд ли удалось достичь» [Малинова 2018: 54-55].
А юбилей Февральской революции 1917 г. был отмечен в нашей стране еще более скромно, чем юбилей Октябрьской революции. Крупнейшие социологические центры России (ВЦИОМ, Левада-Центр) выявили в результате социологических опросов в 2017 г. отношение россиян только к Октябрьской революции. Но «понять Октябрь 17-го невозможно без осмысления другого ключевого события – Февральской революции 1917-го». И «если по справедливости, то эта историческая страница, которая долгое время была в пасынках у советской историографии, конечно, должна занять в нашей национальной памяти достойное место» [Миронов 2017].
По мнению А.Н. Медушевского, «Февральская революция 1917 года впервые в России выдвинула те идеи, которые реализовались в конце XX века или которые, по крайней мере, мы сейчас пытаемся реализовать» [Февральская революция… 2007: 5]. В.М. Лавров считает, что имеются общие и особенные черты Февральской революции в СССР и России в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Разумеется, «мы могли говорить об общем и особенном в данных революциях» [Февральская революция… 2007: 5]. На наш взгляд, следует подчеркнуть общие черты, присущие Февральской революции 1917 г. и демократической революции в СССР и России в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Во-первых, это были две попытки демократизации России в XX в. Во-вторых, Россия была провозглашена демократической республикой дважды: в сентябре 1917 г. и в декабре 1993 г. В-третьих, в ходе этих демократических революций были провозглашены свобода слова, собраний, вероисповедания.
В настоящее время существует возможность новой попытки демократизации российского общества. По мнению В.В. Петухова, «демократизация… будет представлять собой… пролонгированный во времени и осуществляемый под давлением гражданского общества процесс институциональных изменений, и изменения сознания граждан» [Петухов 2017: 21]. На наш взгляд, новая демократизация российского общества может быть осуществлена только при условии проведения конституционной реформы в РФ, направленной на реализацию в полном объеме принципа разделения государственной власти.
Список литературы Закончились ли революции 1917 г. в России?
- Кожокин Е.М. 2017. Закончилась ли Великая русская революция? -Политические исследования. № 6. С. 109-124
- Комаровский В.С. 2017. Наследие революции 1917 года в формировании идентичности современной России. - Власть. № 10. С. 7-15
- Красин Ю.А. 2009. Метаморфозы российской реформации. М.: ИС РАН. 496 с
- Малинова О.Ю. 2018. Коммеморация столетия революции (й) 1917 года в РФ: сравнительный анализ соперничающих нарративов. - Полис. Политические исследования. № 2. С. 37-56
- Миронов С.М. 2017. Февраль - предвестник Октября. Доступ: https://mironov-online.ru/media-publications/fevral-predvestnik-oktyabrya/ (проверено 12.08.2018)
- Пантин И.К. 2015. Русская революция. Идеи, идеология, политическая практика. М.: Летний сад. 294 с
- Петухов В.В. 2017. Демократизация российского общества: возможна ли вторая попытка? - Полис. Политические исследования. № 5. С. 8-23
- Февральская революция 1917 года в российской истории: стенограмма круглого стола в ИРИ РАН. 15 марта 2007 г. Доступ: http://rus-istoria.ru/component/k2/item/366-stenogramma-kruglogo-stola-fevralskaya-revolyutsiya-1917-g-v-rossiyskoy-istorii-v-institute-rossiyskoy-istorii-ran-15-marta-2007-g (проверено 12.08.2018)