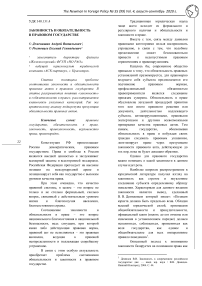Законность и обязательность в правовом государстве
Автор: Деменишин Андрей Витальевич, Ростовцев Евгений Геннадьевич
Журнал: The Newman in Foreign Policy @ninfp
Статья в выпуске: 55 (99), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме соотношения законности и обязательности правовых актов в правовом государстве. В статье раскрываются понятия «законность» и «обязательность в праве»; рассматривается взаимосвязь указанных категорий. Так же критическому анализу подвергнута презумпция обязательности правовых актов.
Правовое государство, обязательность в праве, законность, правозаконность, верховенство права, правопорядок
Короткий адрес: https://sciup.org/14124487
IDR: 14124487 | УДК: 340.131.4
Текст научной статьи Законность и обязательность в правовом государстве
Конституция РФ провозглашает Россию демократическим, правовым государством. Права и свободы в России являются высшей ценностью и заслуживают всемерной защиты и всесторонней поддержки. Российская Федерация претендует на высокие позиции на международной арене и позиционирует себя как государство с высоким уровнем качества права.
При этом очевидно, что качество правовой системы, в целом – это вопрос не только и не столько формальный, сколько вопрос, связанный с действительным уровнем жизни и благополучия населения, благосостоянием страны.
Соотношение законности и обязательности в праве – это вопрос национального благосостояния и национальной безопасности, ведь ситуация, при которой какая либо действующая правовая норма, правовой акт не исполняются – это правовая аномалия, ведущая к правовой неопределенности и подлежащая скорейшему устранению.
В связи с этим особую актуальность приобретает проблема соотношения обязательности и законности в правовом государстве.
Традиционная юридическая наука чаще всего исходит из формального и регулярного наличия и обязательности и законности в праве.
Вместе с тем, связь между данными правовыми категориями нельзя воспринимать упрощенно, в связи с тем, что подобное представление может безосновательно привести к недопустимым правовым ограничениям и правонарушениям.
Казалось бы, современное общество привыкло к тому, что обязательность правовых установлений презюмируется, для правомерно ведущего себя субъекта предполагается его подчинение правовым нормам, профессиональной обязанностью правоприменителя является следование приказам суверена. Обязательность в праве обусловлена легальной процедурой принятия того или иного правового решения или документа, деятельностью надлежащего субъекта, антикоррупционными, правовыми экспертизами и другими всевозможными проверками качества правовых актов. Тем самым, государство, обосновывая обязательность в праве и побуждая своих граждан следовать правовым указаниям, легитимирует право через презумпцию законности правового акта, действующую до тех пор, пока не будет доказано обратное.
Однако для правового государства важно понимать о какой законности в данном случае идет речь.
Наиболее широкое распространение в юридической литературе получил взгляд на законность как строгое и неуклонное следование субъекта определенному образцу поведения. Характерным для данного видения законности является вывод, сделанный В. В. Демидовым который пишет: «Позиция юриста должна быть предельно ясна. Обладая высшей юридической силой, признаками общеобязательности и принудительности, официальный закон (вплоть до его отмены или изменения в установленном порядке) должен исполняться, соблюдаться, применяться как воля государства, как единое и общеобязательное для всех императивное правило поведения»1.
Описанный подход к пониманию законности базируется на понимании права как
Демидов В.В. Законность в современном российском государстве: дис. … канд. юр. наук / В.В. Демидов. Нижний Новгород, 2004. С. 44.
системы общеобязательных норм, охраняемых силой государственного принуждения, а также на отождествлении права и закона. Условно он может быть назван «формальным», поскольку содержание нормативных установлений здесь в расчет не берется, во главу угла ставиться лишь соблюдение юридической формы («буквы закона»).
Однако, как справедливо отмечает В. М. Шафиров: «Абсолютизация закона, законности, утверждение неоправданной их исключительности, приводящей к возвышению над правом, – путь непродуктивный <…> Больше вреда её (законности) престижу в обществе наносит категорическое требование следовать закону, даже противоречащему Конституции»1. Он же пишет, что «в аспекте правозаконности или конституционной законности следовать закону, пусть даже и надлежащим образом юридически оформленному, но содержательно ущербному, вряд ли правомерно»2.
Верховенство закона – это важная, но, все же, формальная сторона правового государства. Содержательная особенность правового государства – это качество самого закона (наличие в нём правового начала). Чтобы закон был правовым, необходимо, чтобы он соответствовал общечеловеческим идеалам, принципам права. Как справедливо отмечает Н. В. Витрук: «Для понимания законности как неотъемлемого качества правовой системы в целом, особого состояния общественной и государственной жизни, режима функционирования правового государства существенное значение имеет содержательная характеристика самих норм права (конституции, законов, подзаконных, включая ведомственные, актов и др.), их аксиологическая оценка. Содержание законности составляет не само наличное законодательство (пусть даже совершенное с точки зрения юридической техники), а такое законодательство, которое адекватно воплощает правовые принципы, общечеловеческие идеалы и ценности, насущные потребности и интересы человека, объективные тенденции социального прогресса»3.
Таким образом, в противовес формальному подходу силу набирает иной взгляд на понимание законности. В связи с этим интерес представляют рассуждения выдающегося отечественного мыслителя И. А. Ильина относительно проблемы применения правовых норм. Он пишет: «Проблема применения правовых норм к живым людям, их состояниям, деяниям и отношениям есть проблема, абсолютно неразрешимая на путях формальной индукции и дедукции: механическое сопоставление «признаков», указанных в норме, и в «свойствах» данной жизни – есть операция, убивающая право, уродующая жизнь и подрывающая в душах волю к правопорядку»4.
Эти воззрения в высокой степени соответствуют известной со времен античности юридической максиме: lex iniusta non est lex, то есть «несправедливый закон — и не закон вовсе». Американский политический деятель XIX века Г.Таро, рассуждая о качестве законов, также поставил под сомнение возможность их исполнения в случае, если он не соответствует критерию справедливости.5
Так и Г.Харт, вслед за И.Бентаном и Д.Остином полагал, что закон должен проверятся моралью, а несправедливость закона является основанием, чтобы его не применять или не соблюдать.6
Сопоставляя формальную и правовую законность, мы солидарными с теми авторами, которые отдают предпочтение именной правовой законности как одной из составляющих верховенства права, а, следовательно, и правового государства. В связи с этим полагаем, что лишь основываясь на правовой законности, требование обязательности правовых актов будет отвечать цели становления правопорядка в обществе.
Представляется, что давая оценку правовому акту, недостаточно оценивать в отдельности такие его свойства как обязательность и законность. Из положений статей 2, 15, 120 Конституции Российской Федерации следует, что исключительно правозаконный правовой акт должен иметь
юридическую силу и, соответственно юридическую обязательность.
Верно, в данном ключе, отмечает Д. Н. Щекин, что с законностью правового акта самым тесным образом связана его обязательность. Только законный правовой акт является обязательным для его адресатов1. В данном случае речь следует вести именно о правовой законности, сочетающей в себе содержательные и формальные требования в деятельности правоприменительных и законодательных органов.
Ежегодно в Российской Федерации отменяются как незаконные тысячи формально обязательных правовых актов. В данном случае, справедливым будет вопрос об обязательности исполнения правового акта в тех случаях, когда у участников правоотношений возникает вопрос о соответствии такого акта требованиям закона.
Видный идеолог буржуазного либерализма во Франции Б. Констан писал, что подчинение законам – это обязанность, но как и всякая другая обязанность, не является абсолютной – она относительна, основывается на предположении, что закон исходит из легитимного источника и имеет справедливые границы.2
В советской правовой доктрине мы так же можем встретить позиции, ставящие под сомнение презумпцию абсолютной обязательности правовых актов. Так, например, А. А. Жданов отмечал, что любое лицо, которому адресован ничтожный акт, может его не признавать и не исполнять, не ожидая признания его недействительным надлежащим органом3.
Современная правовая система порой содержит в себе такие случаи, в том числе, легально предусмотренные, при которых допускается неисполнение формально обязательных правовых норм со стороны участников правоотношений.
Обратимся к примеру. Статья 9 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации устанавливает: «Право командира (начальника) отдавать приказ и обязанность подчиненного беспрекословно повиноваться являются основными принципами единоначалия». Однако, в том случае, если приказ командира (начальника) не соответствует требованиям закона, он не является обязательным для подчиненного и в соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации неисполнение заведомо незаконного приказа исключает уголовную ответственность подчиненного.
Также, в статье 21 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщику предоставлено два самостоятельных права:
-
- не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов и их должностных лиц, не соответствующие Налоговому кодексу Российской Федерации или иным федеральным законам;
-
- обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов и действия (бездействие) их должностных лиц.
Соответственно, действующее законодательство предоставляет возможность не исполнять формально обязательные, однако не соответствующие принципам законности требования и акты вне зависимости от их обжалования в установленном порядке.
Представляется, что в условиях правового государства и торжества режима правозаконности такая ситуация является аномальной. Правовые нормы, а соответственно и любые правовые предписания априори должны быть законными, обоснованными, справедливыми, это обусловлено ожидаемо высоким уровнем профессионализма государственных чиновников, качественной правовой политикой в регулируемой сфере. От этого напрямую зависит эффективность правового регулирования. Вместе с тем, полагаем, что подобные «страховочные» конструкции, могут существовать только в случаях, когда государственный аппарат не достаточно профессионален, не предсказуем, что порождает санкционированное в правовых нормах недоверие к государственным чиновникам со стороны государства.
В зарубежной правовой доктрине указанная проблема является чуть ли не одной из самых дискуссионных начиная с 60-х годов ХХ века и получила свое развитие в рамках концепции «политического обязательства», которая так или иначе обосновывала обязательность или необязательность нормативного правового акта для исполнения.
Исторически первыми в этом вопросе были представители договорной теории права. В своем известном труде «Два трактата о государственном правлении» Дж. Локк утверждал, что согласие с существованием правила обязывает граждан следовать принятым им законам. То есть граждане политически обязаны лишь тем правилам, легитимность которых восходит к демократическим выборам, и в определенных пределах (например, пока правительство не нарушает права человека)1.
В ракурсе проблематики данной статьи справедливым становиться вопрос о приоритете рассматриваемых категорий по отношению друг к другу.
Зачастую, обязательность интерпретируется в качестве основополагающего правового принципа. Вместе с тем, данная интерпретация нуждается в уточнении. В связи с этим интерес представляет мнение Д. Н. Щекина который замечает, что если отдать безусловный приоритет обязательности правовых актов, то выделение ничтожных правовых актов утрачивает всякий смысл, так как вне зависимости от существенности допущенных нарушений правовой акт будет признаваться обязательным к исполнению вплоть до его отмены или признания недействительным в установленном порядке.2
Представляется, что от развития правосознания и правовой культуры, меняющегося в сторону человекоцентристского подхода к правопониманию зависит и отношение, возникающее между законностью и обязательностью. В данном случае, в качестве положительной можно рассмотреть тенденцию, согласно которой участник правоотношений уже далеко не всегда слепо старается исполнить обязанность или соблюсти запрет, не соотнеся его с теми правовыми ценностями, идеалами заложенными в Конституции РФ и определяющими её смысл и содержание.
Перед тем, как реализовать правовое предписание, правоактивный субъект правоотношений должен сверить её с теми правовыми приоритетами, ценностями, которые заложены в правовой системе, убедиться в справедливости, целесообразности такого правового акта.
Таким образом, и юридическая теория и практика исходят из возможности опровержения презумпции обязательности правового акта, в случае если имеются веские основания полагать, что такой акт не является законным.
Таким образом, не преуменьшая всей важности презумпции обязательности правового акта, следует исходить из того, что она должна включать в свое содержание, в том числе, такой компонент как правозаконность.
Необходимо рассматривать обязательность как особое качество права с учетом тех принципиальных изменений, произошедших в правовой системе и изменивших подход к правопониманию в сторону особого отношения к человеку, его правам и свободам как к высшим ценностям.
В тех случаях, когда правовой акт не является достаточно качественным для того, чтобы заключить вывод о его законности, правильности, соответствии общечеловеческим ценностям, провозглашенным в качестве ключевых правовых ориентиров Российской Федерации, имеет место возможность опровержения презумпции обязательности такого правового акта и, соответственно, у правоактивного, наделенного сознанием и волей субъекта правоотношений есть возможность не приводить свое поведение в соответствии с подобным актом.
Список литературы Законность и обязательность в правовом государстве
- Демидов В.В. Законность в современном российском государстве: дис. ... канд. юр. наук / В.В. Демидов. Нижний Новгород, 2004. С. 44/
- Шафиров В.М. Законность в правовом государстве / В. М. Шафиров // Российская юстиция. 2011. N 4, С. 42.
- Шафиров В.М. Законность в правовом государстве / В. М. Шафиров // Российская юстиция. 2011. N 4, С. 44.
- Витрук Н.В. Законность и правопорядок / Н.В. Витрук // Теория государства и права: учебник / Под ред В.К. Бабаева. М.: Юрист, 2003. С. 526 - 527.
- Ильин И. А. О сущности правосознания / Подготовка текста и вступительная статья И. Н. Смирнова. М.: Рарогъ, 1993. С. 230 -231.
- Таро Г. О гражданском неповиновении/ М.:Изд-во Искусство, 1977. С.8.
- Харт Г.Л.А. Понятие права / Пер. с англ.; под общ. ред. Е.В. Афонасина и С.В. Моисеева. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. С.60.
- Щекин Д.Н. Юридические презумпции в налоговом праве. дисс. на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М.,2001. С.80
- Констан Б. [Фрагменты] / Пер. Т.Е. Егоровой // Антология мировой правовой мысли: В 5 т. Т.5. - М.: Мысль, 1999. - С. 392.
- Жданов А.А. О действительности актов государственного управления // Правоведение. 1964. - № 1. - С. 55.
- Оксфордская иллюстрированная энциклопедия: в 9 т. Т.3: Народы и культуры [Текст] / Под ред. Р. Хоггарта.. - М.: Инфра-М; Весь Мир, 1993.С.354
- Щекин Д.Н. Юридические презумпции в налоговом праве. дисс. на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М.,2001. С.89.