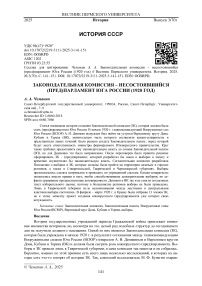Законодательная комиссия – несостоявшийся (пред)парламент Юга России (1920 год)
Автор: Чемакин А.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История СССР
Статья в выпуске: 3 (70), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена истории создания Законодательной комиссии (ЗК), которая должна была стать (пред)парламентом Юга России. В начале 1920 г. главнокомандующий Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) А. И. Деникин вынужден был пойти на уступки Верховному кругу Дона, Кубани и Терека (ВК), значительную часть которого составляли казаки-сепаратисты и представители левых течений. Было решено создать Законодательную палату, перед которой будут нести ответственность министры формируемого Южнорусского правительства. Круг также требовал предоставить ему законодательную власть до созыва Законодательной палаты (ЗП), но для Деникина это было неприемлемо. После переговоров было принято решение сформировать ЗК – (пред)парламент, который разработал бы закон о выборах в палату и временно осуществлял бы законодательную власть. Согласительная комиссия разработала Положение о выборах в ЗК, которые должны были пройти на территории казачьих и горских регионов, а также в Ставропольской, Таврической и Черноморской губерниях. Выборы предполагалось сделать непрямыми и проводить по упрощенной системе. Казаки-сепаратисты попытались внести правки в него, якобы способствовавшие демократизации выборов, но де факто срывавшие предшествующие договоренности. Деникин и ВК так и не смогли согласовать текст избирательного закона, поэтому в большинстве регионов выборы не были проведены. Лишь в Таврической губернии из-за недопонимания между местными и центральными властями выборы состоялись. В феврале – марте 1920 г. в Крыму были избраны 13 членов ЗК, но к этому моменту проект создания южнорусского (пред)парламента уже потерял свою актуальность.
Законодательная комиссия, Законодательная палата, Вооруженные силы Юга России (ВСЮР), Верховный круг Дона, Кубани и Терека, выборы
Короткий адрес: https://sciup.org/147252189
IDR: 147252189 | УДК: 94(47)“1920” | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-3-141-151
Текст научной статьи Законодательная комиссия – несостоявшийся (пред)парламент Юга России (1920 год)
История государственных учреждений периода Гражданской войны привлекает внимание множества историков, но, несмотря на это, целый ряд подобных структур до сегодняшнего дня не получили должного освещения. Одной из них является Законодательная комиссия (ЗК), которая была учреждена в начале 1920 г. в результате соглашения между главнокомандующим Вооруженными силами Юга России (ВСЮР) генералом А. И. Деникиным и Верховным кругом Дона, Кубани и Терека (ВК) и должна была сыграть роль южнорусского (пред)парламента. Выборы в ЗК прошли лишь в Таврической губернии, а сама комиссия так никогда и не собралась. Вероятно, именно по этой причине есть всего лишь несколько исследований, в которых их авторы хоть что-то говорят об истории ЗК. Так, советский исследователь М. Ф. Бунегин охарак-
теризовал создание (пред)парламента Юга России как демократизм «очень ограниченный», но все же являющийся шагом вперед по сравнению с прошлым [ Бунегин , 1927, с. 286–287]. В монографии В. Д. Зиминой ЗК именуется «созданной на скорую руку», а вся связанная с ней конструкция характеризуется как нежизнеспособная [ Зимина , 2006, с. 139]. В. Ж. Цветков рассмотрел положение о выборах в ЗК, при этом, правда, искусственно объединив выдержки из разных редакций законопроекта (приводимая им система выборщиков в земских губерниях взята из редакции конституционной комиссии ВК, а упоминание о представителях Херсонской губернии – из черновика согласительной комиссии) [ Цветков , 2019, с. 90–91]. П. Кенез, упоминавший о создании комиссии, ошибочно полагал, что одна половина ее членов должна была быть избрана ВК, а другая назначена Деникиным [ Kenez , 1977, p. 233]. В предлагаемой статье мы рассмотрим причины создания ЗК, избирательное законодательство, ход и результаты выборной кампании.
Переговоры о создании Законодательной комиссии
На протяжении 1918–1919 гг. на территориях, подконтрольных А. И. Деникину, не существовало центрального органа народного представительства. Представители «парламентов» казачьих регионов – Дона, Кубани и Терека – предлагали создать законосовещательный орган при главнокомандующем (Палату областных представителей), но проект этот так и не был согласован из-за разногласий между самими казаками (ГАРФ. Ф. Р-1258. Оп. 2. Д. 37. Л. 32–33; Ф. Р-6611. Оп. 1. Д. 4. Л. 28 об., 29). Южнорусская конференция, также состоявшая из представителей казачьих регионов, настаивала на создании законодательного органа, допуская лишь изъятие военных дел из его компетенции (ГАРФ. Ф. Р-6611. Оп. 1. Д. 3. Л. 18). Пока дела на фронте шли хорошо, требования казаков о создании законосовещательного или законодательного органа не особенно мешали Деникину, но зато после целого ряда тяжелых поражений на рубеже 1919–1920 гг. и риска ухода казачьих частей с фронта позиции главкома были серьезно поколеблены, он вынужден был менять свою позицию и идти на уступки.
-
5 января 1920 г. (здесь и далее – старый стиль) в Екатеринодаре открылись заседания Верховного круга Дона, Кубани и Терека, избранного казачьими «парламентами» и объявившего себя верховной властью на казачьих землях. В состав ВК вошли 150 человек – по 50 представителей от донского и терского Больших войсковых кругов и Кубанской чрезвычайной краевой рады. Согласно воспоминаниям кубанского сепаратиста П. Л. Макаренко, ВК делился на две почти равные части – «самостийническую» и «русофильскую» ( Макаренко , 1938, с. 45–46).
Выступая на заседании ВК 16 января 1920 г., Деникин согласился создать «представительное учреждение законосовещательного характера» (Речь…, 1920, с. 2). В ходе переговоров с казаками главком пошел на уступки и выставил следующие предложения: создание представительного органа с законодательными функциями, но с правом абсолютного вето в отношении его постановлений со стороны главы власти; образование правительства, ответственного перед законодательным органом, за исключением министров военно-морского, снабжения и путей сообщения. 18 января Деникин возложил переговоры с ВК на вызванных из Новороссийска в Екатеринодар бывшего председателя Московской судебной палаты В. Н. Челищева и депутата Государственной думы III и IV созывов Н. В. Савича (ГАРФ. Ф. Р-6611. Оп. 1. Д. 4. Л. 157). В кулуарах ВК многие возмущались тем, что главком назначил своими представителями бывших членов Особого совещания, ненавистного для «самостийников» (ГАРФ. Ф. Р-5827. Оп. 1. Д. 158. Л. 7 об.). Савич вспоминал, что Деникин мало надеялся на конечный результат, но при этом считал себя обязанным сделать последнюю попытку и идти в уступках до конца. Главком хотел выиграть время для того, чтобы отступить с добровольцами и верными ему казаками в случае разрыва с ВК. По мнению Савича, надо было «постараться, чтобы будущий совдеп был возможно менее вредным для военных операций, что можно достигнуть путем введения в его состав членов по назначению или путем избирательной системы» ( Савич , 1993, с. 326–327).
-
19 января Верховный круг дал комиссии, отправлявшейся на переговоры с Деникиным, наказ, согласно которому южнорусская власть устанавливалась впредь до созыва Всероссийского учредительного собрания. Согласно наказу, первым главой власти по соглашению ВК и
главного командования ВСЮР признавался Деникин. Законодательная власть осуществлялась Законодательной палатой из представителей, избранных населением по пропорциональному принципу, а впредь до ее формирования – Верховным кругом. Исполнительная власть принадлежала Совету министров, ответственному как в целом, так и в лице отдельных членов перед Законодательной палатой (на время Гражданской войны это постановление не распространялось на военного министра). Лицо, возглавляющее южнорусскую власть, получало право относительного вето (Протоколы заседаний…, 1920, с. 19–20).
-
21 января на станции Тихорецкая состоялось совещание представителей высшего военного командования и делегатов ВК (Там же, с. 21). Происходившее в поезде главкома отчасти напоминало события конца февраля – начала марта 1917 г. в поезде императора Николая II: казачьи политики, как и лидеры Думы тремя годами ранее, пытались представить себя вождями народных масс и требовали от правителя уступок, обещая взамен успокоить и фронтовые части, и тыл. Стороны переговоров не доверяли друг другу, а Савич и вовсе полагал, что «через шесть месяцев от всего этого соглашения ничего не останется» ( Савич , 1993, с. 330).
Деникин дал согласие на ответственное министерство и относительное, а не абсолютное право вето, но решительно воспротивился тому, чтобы законодательная власть до созыва Законодательной палаты принадлежала ВК, в котором, по его мнению, доминировали кубанские «самостийники» ( Мельгунов , 1929, с. 200). Кроме того, он заявил, что не может согласиться на то, чтобы казачье учреждение ведало неказачьим населением ( Б.Г. , 1920, с. 2). Главком вспоминал, что «Круг принужден был отказаться от своего ультимативного требования о предоставлении ему законодательных функций до созыва палаты», так как «это было невозможно ввиду отсутствия государственного смысла в деяниях Круга и совершенно неприемлемо в глазах российских людей» ( Деникин , 1926, с. 307). В результате была придумана Законодательная комиссия – «некий “предпарламент” из представителей казачьих земель и областей, подчиненных главнокомандующему» ( Соколов , 1921, с. 247), благодаря которому должен был установиться определенный баланс между сторонниками и противниками Деникина. Достигнутая договоренность базировалась на наказе ВК, в который были внесены некоторые изменения: так, например, было решено, что не только военно-морской министр, но и министр путей сообщения не будет нести ответственности перед палатой. Разработка выборного закона в Законодательную палату, а также текущее законодательство возлагалось на Законодательную комиссию, созываемую из представителей казачьих войск и местностей, находящихся под управлением главнокомандующего (Протоколы заседаний…, 1920, с. 22–23).
Первоначального кубанская фракция ВК планировала голосовать против соглашения, донцы колебались, терская фракция была готова поддержать договор. Кубанский атаман Н. А. Букретов и председатель Кубанского краевого правительства В. Н. Иванис настояли на пересмотре решения своей фракции. Под их влиянием кубанские депутаты 17 голосами против 15 постановили голосовать за соглашение ( Макаренко , 1938, с. 125–126). 22 января Круг утвердил текст договора (Протоколы заседаний…, 1920, с. 22), а 23 января главком подтвердил свое согласие ( Макаренко , 1938, с. 126, 134). Деникин вспоминал, что «обе стороны пришли к соглашению под давлением обстановки, без особой радости и без больших надежд...» ( Деникин , 1926, с. 307).
Эсер А. А. Аргунов, комментируя соглашение, отмечал, что учреждение, неудачно названное «комиссией», «должно явиться, по существу своих задач, временной законодательной палатой, предпарламентом» ( Аргунов, 1920, с. 1). Газета «Кубанский путь» также обращала внимание на то, что «самое наименование выбрано до крайности неудачно, Комиссия с законодательной властью – почти парадокс» (Соглашение, 1920, с. 1). «Отношения главы власти, которым остается ген[ерал] Деникин, и Законодательной комиссии построены по схеме, определявшей права государя и Государственной думы, но с существенными поправками в сторону ограничения полномочий единоличного главы власти», – писала одна из крымских газет. Ее сотрудник, леволиберальный журналист С. И. Варшавский, полагал, что «мы будем иметь дело с парламентом в сокращенном виде, если можно так выразиться, но все же не с “предпарламентом”, не с законосовещательным, а с законодательным учреждением» ( Варшавский , 1920, с. 1).
По мнению члена Севастопольской городской управы профессора А. В. Болдыря, «конституция» Юга России представляла собой «плохо разрешенное сочетание двух начал: монархического и демократического»: «То же двоевластие, та же суженная компетенция законодательного органа, то же чрезвычайно-указное право (87 ст.) с незначительными поправками. Отличие, более или менее заметное, только во внесении в новую конституцию ограниченного начала министерской ответственности перед законодательным органом» ( Болдырь , 1925, с. 200). Действительно, Законодательная комиссия одновременно напоминала и дореволюционную Государственную думу, и Предпарламент (Временный совет Российской республики) образца осени 1917 г., представляя собой гибрид предпарламента и полноценного парламента.
Для выработки принципов функционирования и избрания ЗК в Екатеринодаре была создана согласительная комиссия, в которую вошли представители Верховного круга (по два представителя от каждой фракции: П. М. Агеев и М. Н. Гнилорыбов ‒ от донской; К. И. Сапронов и В. И. Баскаков ‒ от терской; П. И. Курганский и Ф. С. Сушков ‒ от кубанской ( Макаренко , 1938, с. 126)) и главнокомандующего (Н. В. Савич, В. Н. Челищев и профессор П. И. Новгородцев, но последний уклонился от работы ( Савич , 1993, с. 332)). Савич вспоминал: «Первое же свидание с казаками показало, что у них никакого определенного плана или проекта не имеется, да и вряд ли они могли его составить. Они прибегли к обычной для демократов манере: назначили платную подготовительную комиссию из грамотных спецов и поручили ей что-либо состряпать. Тогда мы предложили им написать и представить через сутки проекты обоих положений. <…> Я видел во всей нашей работе нечто, обреченное на скорую и верную гибель, а потому мне было безразлично, что выйдет из-под нашего пера. <…> Приблизительно в сутки мы состряпали положение о законодательной палате [комиссии. – А. Ч. ]. Труднее было с избирательной системой. Правильных выборов все равно произвести было нельзя, поэтому мы решили произвести их при помощи городских дум и казачьих законодательных палат. При этом выяснилось, что казаки настаивают на том, что две трети депутатов избирается от казачества, а самые выборы должны быть произведены Верховным кругом» (Там же, с. 332–333). Согласно воспоминаниям Челищева, консультантами согласительной комиссии были профессор Б. А. Кистяков-ский (со стороны ВК), юрист А. Н. Лазаренко и профессор А. А. Алексеев (со стороны главкома). Челищев утверждал, что работа шла легко, так как все присутствующие были специалисты, далекие от того, чтобы подозревать друг друга в подвохах и недомолвках (ГАРФ. Ф. Р-6611. Оп. 1. Д. 1. Л. 405–406). Составленный проект не вызвал больших возражений со стороны казачьих представителей, хотя некоторые правки для видимости были сделаны ( Савич , 1993, с. 333).
«Положение о выборах»
Согласительная комиссия пришла к следующему. Впредь до созыва Законодательной палаты законодательная власть в пределах краевых образований Дона, Кубани, Терека и областей, занимаемых ВСЮР, осуществляется главнокомандующим ВСЮР совместно с Законодательной комиссией. Законопроекты, принятые ЗК, должны утверждаться главнокомандующим ВСЮР в двухнедельный срок. Если за это время не последует ни утверждения, ни отклонения законопроекта, он считается утвержденным. В случае неутверждения законопроект возвращается в ЗК, которая может приступить к его рассмотрению не ранее, чем через четыре месяца, а для его принятия требуется поддержка 2/3 членов комиссии. Министры, за исключением военно-морского и путей сообщения, несут ответственность перед ЗК и в случае выражения им недоверия обязаны подать в отставку. В исключительных случаях главком может распустить ЗК, при этом новые выборы должны быть произведены в месячный срок со дня роспуска.
ЗК состоит из 90 членов, 50 из которых избираются краевыми образованиями Дона, Кубани и Терека, 7 – горскими народами, 3 – Астраханским казачьим войском, 30 – остальным населением местностей, находящихся под управлением главнокомандующего ВСЮР. Членами ЗК могут быть избраны члены Верховного круга, законодательных учреждений Дона, Кубани и Терека и все прочие граждане мужского пола, достигшие 25-летнего возраста, не опороченные по суду и проживающие в пределах краевых образований Дона, Кубани, Терека и прочих областей, занимаемых ВСЮР.
Члены ЗК от Дона, Кубани и Терека выбираются соответствующими фракциями Верховного круга, от Астраханского войска – самим войском, от горцев – представителями этих народов, причем от Чечни, Ингушетии, Кабарды и кумыков (Хасавюртовского округа) ‒ по одному делегату, а от Дагестана – три (в том числе один от городского населения и два от прочего населения края). Представители Черноморской губернии избираются на избирательных собраниях в Новороссийске (3), Геленджике, Туапсе и Сочи (по 1) с участием гласных городских дум, сельских старшин и кандидатов к ним. Ставропольская губерния делегирует в ЗК трех членов от городской думы Ставрополя и одного от думы Святого Креста, а также шестерых от губернского избирательного собрания, состоящего из председателей и членов губернских и уездных земских управ и выборщиков от губернских кооперативных объединений (по 5 от каждого), избранных в соединенных собраниях советов и правлений данных объединений. Члены ЗК от Таврической губернии избираются городскими думами Симферополя (2), Ялты (2), Севастополя, Феодосии, Керчи и Евпатории (по 1), причем гласные безуездных городов присоединяются к составу гласных ближайшего уездного города. Избирательное собрание, составленное по тому же принципу, что и в Ставропольской губернии, избирает шесть членов ЗК (ГАРФ. Ф. Р-115. Оп. 2. Д. 21. Л. 6–7 об.; BAR. Nadezhda I. and Vladimir M. Bek Papers. Box 1. Folder «Civil War»).
Изначально планировалось включение в состав ЗК четырех представителей от Херсонской губернии, избираемых Одесской городской думой, но к концу января весь этот регион был занят Красной армией. В связи с этим пришлось перераспределить места в ЗК, увеличив представительство от Таврической губернии (таблица) (ГАРФ. Ф. Р-6611. Оп. 1. Д. 4. Л. 165–166 об.). Одесская городская дума, находившаяся под контролем русских националистов, должна была дать лояльных Деникину членов ЗК, поэтому вставал вопрос о том, как поделить эти освободившиеся мандаты. В итоге два места было отдано лояльным главкому Симферопольской и Ялтинской думам, два – потенциально оппозиционному Таврическому губернскому собранию. Впрочем, такое компромиссное решение все равно вызвало много вопросов. «Беглый взгляд на распределение мест убеждает в том, что господствующее положение в Законодательной комиссии решено дать буржуазии, иначе чем же объяснить, что меньшая по числу жителей Ялта, заполненная буржуазией, получила мест больше, чем в два раза превышающий ее по числу жителей, но рабочий Севастополь. Никаких надежд на избрание в комиссию татар не было, татарские города Бахчисарай и Карасубазар присоединены были для выборов к Симферополю. Города крестьянского типа, как Джанкой и Перекоп, совершенно не получили мест в Законодательную комиссию», – писал М. Ф. Бунегин [ Бунегин , 1927, с. 287].
Вопрос о распределении мест от трех казачьих регионов был оставлен на усмотрение ВК. Донцы и кубанцы склонялись к пропорциональному представительству: 25 человек от Дона, 20 ‒ от Кубани и 5 ‒ от Терека. Терцы настаивали на равном представительстве от каждого края (Состав…, 1920, с. 2).
«Избирательный закон с его двухстепенной системой и устранением женщин от избирательных прав несомненно вызовет ряд нареканий. При всех своих недостатках, новый избирательный закон имеет одну бесспорно хорошую сторону: он дает возможность немедленно приступить к выборам», – писал С. И. Варшавский (Варш а вский, 1920, с. 1). А. А. Аргунов выражал неудовольствие тем, что распределение мест между разными территориями произведено далеко не равномерно, а способ избрания депутатов обставлен крайне узкими рамками. «Спрашивается, почему исключены, например, земские собрания, различные профессиональные объединения, съезды и почему выдвинуты только кооперативы? – вопрошал он. – Такое сужение базиса народного представительства отнюдь не может быть объяснено ни условиями спешности, ни требованиями военной обстановки» ( Аргунов , 1920, с. 1).
-
30 января ВК начал обсуждение проекта. Донцы предлагали рассмотреть закон в текущем заседании, кубанцы настаивали на передаче его в конституционную комиссию ВК. Терцы поддержали кубанцев, сославшись на то, что не успели ознакомиться с текстом проекта. В итоге было решено передать проект в конституционную комиссию, а затем вернуться к нему в заседании 9 февраля ( Б.Г. , 1920, с. 2; Законодательная комиссия, 1920, 3 февраля, с. 2).
Представительство регионов в Законодательной комиссии
|
Регионы |
1-я редакция |
2-я редакция |
|
Верховный круг Дона, Кубани и Терека |
50 |
50 |
|
Ставропольская губерния |
10 |
10 |
|
– Ставропольская городская дума |
3 |
3 |
|
– Святокрестовская городская дума |
1 |
1 |
|
– губернское избирательное собрание |
6 |
6 |
|
Таврическая губерния |
10 |
14 |
|
– Симферопольская городская дума |
1 |
2 |
|
– Севастопольская городская дума |
1 |
1 |
|
– Ялтинская городская дума |
1 |
2 |
|
– Феодосийская городская дума |
1 |
1 |
|
– Керченская городская дума |
1 |
1 |
|
– Евпаторийская городская дума |
1 |
1 |
|
– губернское избирательное собрание |
4 |
6 |
|
Черноморская губерния |
6 |
6 |
|
– Новороссийское избирательное собрание |
3 |
3 |
|
– Геленджикское избирательное собрание |
1 |
1 |
|
– Туапсинское избирательное собрание |
1 |
1 |
|
– Сочинское избирательное собрание |
1 |
1 |
|
Херсонская губерния |
4 |
– |
|
– Одесская городская дума |
4 |
– |
|
Горские народы |
7 |
7 |
|
– Чечня |
1 |
1 |
|
– Ингушетия |
1 |
1 |
|
– Кабарда |
1 |
1 |
|
– кумыки |
1 |
1 |
|
– городское население Дагестанского края |
1 |
1 |
|
– прочее население Дагестанского края |
2 |
2 |
|
Астраханское казачье войско |
3 |
3 |
|
Всего членов ЗК |
90 |
90 |
Рассмотрев законопроект, конституционная комиссия внесла в него целый ряд изменений, урезающих права главкома: так, например, он лишался возможности распустить ЗК до того, как она выработает закон о выборах в Законодательную палату. Представительство от регионов оставалось прежним, но при этом изменялась система выборов от земских губерний – Ставропольской и Таврической. Губернские избирательные собрания теперь должны были состоять не из представителей земских управ и кооперации, а из выборщиков, избираемых от населенных пунктов на волостных сходах примерно по той же схеме, которая использовалась при выборах Кубанской рады: от 5000 до 7499 душ – один выборщик, от 7500 до 12 499 – два и т.д. (населенные пункты с населением менее 5000 душ, имеющие самостоятельный орган самоуправления, избирали одного выборщика) (ГАРФ. Ф. Р-115. Оп. 2. Д. 21. Л. 1–2 об.; Ф. Р-6611. Оп. 1. Д. 4. Л. 167–168 об.).
Редакция Положения, подготовленная конституционной комиссией, была опубликована в газете кубанских «самостийников» «Воля» (Законодательная комиссия, 1920, 8 февраля, с. 2), так что можно предполагать, что именно сепаратистски настроенное крыло кубанцев и стояло за этими коррективами. Правки нарушали достигнутые ранее договоренности, изменяя «уже принятый и согласованный текст» (Савич, 1993, с. 333). Маловероятной представлялась и возможность проведения выборов в Ставропольской и Таврической губерниях, так как в условиях крушения фронта и хозяйственной разрухи организовать волостные сходы было чрезвычайно сложно. Вполне вероятно, что кубанские «самостийники» планировали спровоцировать Деники- на на разрыв соглашения, причем виновным должен был выглядеть именно главком, не согласившийся на «демократизацию» проекта. По мнению Савича, председатель ВК И. П. Тимошенко и другие ярые эсеры «поставили свои условия для образования новой демократической власти, будучи уверены, что Деникин не согласится на их требования. Но Деникин уступил, и их карты на момент оказались спутанными. Тогда они начали политику затяжек» (Там же, с. 334).
Хотя исправленный проект должен был быть вынесен на Верховный круг немедленно после возобновления занятий (Положение…, 1920, с. 2), его рассмотрение так и не состоялось. Несмотря на нарушение договоренностей, Деникин на разрыв не пошел и продолжил переговоры. На 13 февраля было назначено совещание представителей ВК с Челищевым и Савичем, но его пришлось отменить из-за неприбытия некоторых представителей ВК. Не дождавшись их, Челищев и Савич уехали из Екатеринодара в Новороссийск (Согласительная комиссия, 1920, с. 2). Вскоре они ушли в отставку, вызванную просьбой согласительной комиссии назначить других представителей, так как деникинские переговорщики, «весьма связанные с Новороссийском, значительно тормозили работу комиссии своим частым отсутствием из Екатеринодара» (Уход…, 1920, с. 2), хотя в действительности работу комиссии саботировали именно представители казачества. По воспоминаниям Савича, он и Челищев подали Деникину прошения об отставке, «мотивируя невозможностью работать с людьми, которые на нас клевещут» ( Савич , 1993, с. 334–335). Предполагалось выдвинуть на замену им кого-нибудь из екатеринодарских политических деятелей (Слухи…, 1920, с. 2), но этого так и не произошло, работа согласительной комиссии фактически прекратилась.
Выборы в Таврической губернии
В большинстве регионов к выборам в ЗК даже не приступали, так как не было ясно, каким из двух Положений руководствоваться. Выборы состоялись лишь в Таврической губернии, причем само их проведение стало следствием недоразумения. «В январе таврический губернатор получил телеграмму с подробным изложением системы выборов в это учреждение. Телеграмма имела осведомительный характер, но губернатор понял ее как распоряжение о производстве выборов, которые и были назначены», – вспоминал председатель Таврической губернской земской управы князь В. А. Оболенский ( Оболенский , 1988, с. 686–687). В действительности все было немного иначе, хотя суть произошедшего Оболенским была передана верно. 6 февраля 1920 г. начальник штаба главнокомандующего ВСЮР И. П. Романовский передал в Джанкой главноначальствующему Новороссии Н. Н. Шиллингу телеграмму, в которой сообщал о том, что достигнуто соглашение по вопросу об организации власти на территории ВСЮР, и приводил основную информацию о системе выборов в ЗК (в той редакции, которая была подготовлена в конце января согласительной комиссией). Шиллинг, получив телеграмму, 8 февраля передал ее «для руководства и опубликования» в Симферополь таврическому губернатору Н. А. Татищеву, приказав при этом принять меры к возможно срочному производству выборов и оказать в этом отношении полное содействие (ГАРК. Ф. Р-2235. Оп. 1. Д. 375. Л. 1–7). Татищев, в свою очередь, отправил телеграммы городским головам и председателю губернской земской управы князю Оболенскому, возложив на них руководство подготовительными работами по выборам, а также в редакцию «Таврических губернских ведомостей», поручив опубликовать информацию о выборах и изготовить оттиски в количестве 300 экземпляров (Там же. Л. 8–14). Вскоре текст телеграммы Шиллинга появился на страницах «Таврических губернских ведомостей» (Телеграмма…, 1920, с. 1).
Выборы в Севастополе, состоявшиеся 16 февраля 1920 г., закончились крупным скандалом. На избирательном собрании в помещении Института физических методов лечения присутствовали гласные Севастопольской и Балаклавской дум, представители от профсоюзов, других организаций, печати, зрители – всего не менее 1000 человек (Болдырь, 1925, с. 206). «Какая-то помесь думского заседания с митингом, в то же время не думское заседание и не митинг», – писала про собрание местная газета «Юг» (Дума и власть, 1920, с. 1). Меньшевики отказались участвовать в выборах, ссылаясь на цензуру и отсутствие представительства от рабочих организаций. К ним присоединились эсеры, требовавшие восстановления всех гражданских свобод и проведения выборов «на основах всеобщего, равного, прямого, тайного и пропорционального избирательного права» (Там же). Демократический блок, состоявший из кадетов, энесов и пле-хановцев, первоначально планировал поучаствовать в выборах, но в конце концов примкнул к большинству. К «демократам» присоединились гласные балаклавской думы, а также часть «фракции» домовладельцев. В итоге резолюция социалистов об отказе от участия в выборах была принята 30 голосами при 1 против и 18 воздержавшихся (Там же, с. 4). По мнению сотрудника газеты «Юг», выборы в ЗК в Севастополе превратились в акцию протеста потому, что «люди торопились сказать все, что накипело, наболело, боясь, что кончится вот это одно единственное собрание, и опять наступит полоса безмолвия» (Тактика…, 1920, с. 1). Заседание произвело большое впечатление, особенно в правых кругах. Газета «Вечернее слово» даже напечатала отчет о нем под заголовком «Штурм власти» (Болдырь, 1925, с. 207). Начитавшийся правой прессы генерал Я. А. Слащев 18 февраля произвел аресты наиболее видных левых деятелей, среди которых были меньшевики И. С. Пивоваров, Н. Л. Конторович, а также бывший городской голова В. А. Могилевский, к заседанию думы совершенно не причастный. Слащев планировал выслать арестованных на советскую территорию, но в конце концов согласился их отпустить, получив со стороны профсоюзов гарантии спокойствия в тылу (Аресты…, 1920, с. 1; Освобождение…, 1920, с. 1–2).
Выборы в Симферополе прошли спокойнее, хотя обстановка вокруг них также была напряженная. 16 февраля в помещении губернской земской управы состоялось Таврическое губернское избирательное собрание, в котором, кроме членов губернской и уездных управ, приняли участие по пять представителей от губернских кооперативных объединений «Крымский союз потребительных обществ» («Крымспо») и «Крымский кредитный союз кооператоров» («Крымсоюзбанк»), фактически контролировавшихся эсерами (ГАРК. Ф. Р-2235. Оп. 1. Д. 375. Л. 22–22 об.). Членами ЗК были избраны: председатель Ялтинской уездной земской управы И. М. Аметов (беспартиный); бывший городской голова Бахчисарая поручик М. С. Хайрудинов (левый); агроном и кооператор из Ялты Д. Г. Головко (эсер); заведующий Отделом продовольствия Ялтинской уездной земской управы И. А. Кузнецов (беспартийный); бывший городской голова Симферополя, межевой инженер и кооператор А. В. Фосс (лидер крымских эсеров); писатель и публицист, служащий Всероссийского земского союза В. С. Ел-патьевский (энес) (Там же. Л. 39).
Соединенное заседание Симферопольской и Бахчисарайской дум состоялось 17 февраля 1920 г. в помещении губернской земской управы (представители Карасубазара, по всей видимости, не прибыли) (Там же. Л. 21, 23–23 об.). Перевес оказался у умеренных сил. Гласный П. С. Бобровский вспоминал: «…Мы, симферопольцы, пытались сговориться с бахчисарайца-ми, сплошь татарами, но встретили в них непримиримых врагов идеи единой России. Кончилось тем, что бахчисарайцы воздержались от голосования, и оба депутата были избраны из состава Симферопольской думы. В заседании было произнесено 2–3 политические речи, депутатам был дан наказ, содержание которого можно выразить словами – единая демократическая Россия» ( П. Б. , 1926, с. 269). Меньшевики, как и в Севастополе, от участия в голосовании отказались (Гражданская война…, 2014, с. 687). Членами ЗК были избраны председатель губернской земской управы князь В. А. Оболенский (кадет) и заместитель председателя Симферопольской городской думы, редактор газеты «Южные ведомости» П. С. Бобровский (плехано-вец) (ГАРК. Ф. Р-2235. Оп. 1. Д. 375. Л. 39; ГАРФ. Ф. Р-5354. Оп. 1. Д. 1. Л. 4–4 об.; Выборы в Законодательную комиссию, 1920, 20 февраля, с. 3).
Избирательное собрание в Ялте прошло 17 февраля 1920 г., на нем присутствовали 39 гласных Ялтинской и 12 гласных Алуштинской дум. Гласные думы Алупки на выборы на явились, хотя и были извещены о собрании. От участия в голосовании отказались социалисты, мусульмане и единственный представитель украинской группы. В итоге избранными оказались два монархиста: председатель Ялтинской городской думы, бывший таврический губернатор граф П. Н. Апраксин и городской голова Ялты доктор И. И. Иванов (ГАРК. Ф. Р-2235. Оп. 1. Д. 375. Л. 31–32 об., 39).
Городская дума Феодосии 18 февраля 1920 г. постановила воздержаться от избрания делегата до получения полного текста закона (Крым и власть, 1920, с. 4). Впрочем, голосование все же состоялось полторы недели спустя ‒ 28 февраля. В выборах приняли участие «деловая», «церковная» и кадетская группы; социал-демократы и здесь прибегли к бойкоту. Членом ЗК был избран феодосийский городской голова, инженер А. А. Любимов (беспартийный) (Выборы в Законодательную комиссию, 1920, 1 марта, с. 4; ГАРК. Ф. Р-2235. Оп. 1. Д. 375. Л. 33, 37, 39).
Позже всех выборы состоялись в Евпатории и Керчи. По сути, они прошли тогда, когда ЗК была уже ликвидирована, но, вероятно, эта новость еще не дошла до этих городов. Изначально голосование в Керчи должно было пройти 17 февраля, а в Евпатории 19 февраля, но в обоих случаях оно было перенесено. В итоге 20 марта дума Евпатории избрала членом ЗК городского голову, юриста Б.М. Сарача (кадет), а 22 марта Керчь-Еникальская дума делегировала в ЗК гласного, старшего помощника надзирателя акцизных сборов И. Ф. Сно (кадет) (ГАРК. Ф. 455. Оп. 1. Д. 9671. Л. 2, 6; Ф. Р-2235. Оп. 1. Д. 375. Л. 35, 36, 38).
Таким образом, в ЗК от Крыма было избрано 3 кадета, 3 беспартийных, 2 монархиста, 2 эсера, 1 плехановец, 1 народный социалист, 1 татарин левых взглядов, 1 место осталось вакантным. «Крым проявляет живейший интерес к работам южнорусской власти. В Крыму уже произведены выборы депутатов в Законодательную комиссию, ожидающих вызова в Екатери-нодар», – писала газета «Вестник Верховного круга», правда, при этом никак не выражая свою позицию по поводу правильности или неправильности состоявшихся выборов (Крымские делегаты, 1920 с. 2). Новоизбранные члены ЗК поставили вопрос о финансировании поездки в Ека-теринодар, и местные власти запросили для них пособие в 12 тыс. руб. В итоге было решено, что его выдадут не в Симферополе, а по прибытии в Екатеринодар (Беседа…, 1920, с. 4).
Заключение
Поехать в Екатеринодар избранным членам ЗК от Таврической губернии так и не довелось, наоборот, в марте 1920 г. деморализованные остатки белых армией грузились на корабли и уходили в Крым. Законодательная комиссия, не говоря уже о Законодательной палате, так никогда и не собралась. Еще 3 марта 1920 г. ВК объявил о разрыве отношений с Деникиным, посчитав соглашение с ним «в деле организации южнорусской власти не состоявшимся» (ГАРФ. Ф. Р-115. Оп. 2. Д. 37. Л. 1). После разрыва кубанцев с добровольцами аппарат южнорусской власти де-факто перестал существовать.
Все усилия по организации южнорусского (пред)парламента оказались совершенно несвоевременными и бесполезными. Серьезные уступки, на которые пошел Деникин, возможно, могли спасти ситуацию годом ранее, но в конце зимы 1920 г. они были явно запоздавшими. К тому же, очевидно, что ни члены ВК, ни Деникин не верили в возможность созыва полноценного представительного органа и его нормального функционирования, хотя и объявили о создании ЗК: казачьи парламентарии (в первую очередь кубанцы-сепаратисты) с целью найти убедительный повод для разрыва с добровольцами, главнокомандующий – с целью выиграть время. Стороны так и не смогли согласовать текст избирательного закона, что, впрочем, не помешало провести выборы в Таврической губернии, оказавшиеся местами весьма бурными. В итоге кто-то в создании ЗК увидел желание закамуфлировать диктатуру, не меняя ее сути, кто-то – слабость Деникина. Профессор А. В. Болдырь справедливо заметил, что это был «демократизм распада власти, ее разложения» ( Болдырь , 1925, с. 201).