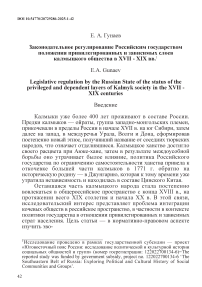Законодательное регулирование Российским государством положения привилегированных и зависимых слоев Калмыцкого общества в XVII–XIX вв.
Автор: Гунаев Е.А.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 1 (83), 2025 года.
Бесплатный доступ
В исторической науке продолжают оставаться дискуссионными вопросы взаимосвязи привилегированных и зависимых слоев у номадов в контексте форм эксплуатации (зависимости) и каково было влияние политики Российского государства в контексте интеграции кочевников в общероссийское пространство, а шире - о сущности социальной модели кочевых обществ. В настоящей статье на примере калмыцкого общества XVII-XIX вв. рассматривается законодательный аспект регулирования положения привилегированных (нойонов, зайсангов) и зависимых (простолюдины) слоев населения. Проанализирована историография вопроса, приведены нормативные акты Российского государства XVII-XIX вв. и материалы газеты «Астраханский листок» конца XIX в. Автор приходит к выводу, что с начала XVIII в. российское правительство оказывало материальную и военно политическую поддержку калмыцким владельцам (нойонам). Российские власти, первоначально, не имея широкого представления об устройстве калмыцкого общества, опираясь на местные обычаи и традиции, использовали власть привилегированных слоев у калмыков для контроля над населением улусов. Власть владельцев базировалась не посредством собственности на землю и скот подвластных, а исходя из личной феодальной зависимости населения. Российские власти, реформируя ее, встроили в правовое поле Империи. Одновременно правительственные власти узаконивали фактически крепостничество среди калмыков, однако подобный вывод требует специального исследования. Поскольку де юре и де факто феодальная зависимость уже существовала в калмыцком обществе с его патриархальнородовыми устоями. Вместе с тем, уже в первую четверть XIX в. российскими актами отменяется право привилегированных слоев продавать, закладывать и дарить подвластных калмыковпростолюдинов, оставалась лишь экономическая зависимость в виде податей. К концу XIX в. и указанная зависимость была отменена. Интеграция правящих слоев калмыцкого общества и узаконивание их контроля над подвластным населением являлись одним из способов закрепления российского влияния. Второй способ подразумевал непосредственное управление с помощью правительственных чиновников.
Российское законодательство, калмыки, привилегированные и зависимые слои общества, нойоны, зайсанги, простолюдины, крепостничество, стратификация
Короткий адрес: https://sciup.org/149147714
IDR: 149147714 | DOI: 10.54770/20729286-2025-1-42
Текст научной статьи Законодательное регулирование Российским государством положения привилегированных и зависимых слоев Калмыцкого общества в XVII–XIX вв.
Калмыки уже более 400 лет проживают в составе России. Предки калмыков — ойраты, группа западно-монгольских племен, прикочевали в пределы России в начале XVII в. на юг Сибири, затем далее на запад, в междуречья Урала, Волги и Дона, сформировав постепенно новый этнос, получивший название от соседних тюркских народов, что означает отделившиеся. Калмыцкое ханство достигло своего расцвета при Аюке-хане, затем в результате междоусобной борьбы оно утрачивает былое влияние, политика Российского государства по ограничению самостоятельности ханства привела к откочевке большей части калмыков в 1771 г. обратно на историческую родину — в Джунгарию, которая к тому времени уже утратила независимость и находилась в составе Цинского Китая.
Оставшаяся часть калмыцкого народа стала постепенно вовлекаться в общероссийское пространство с конца XVIII в., на протяжении всего XIX столетия и начала XX в. В этой связи, исследовательский интерес представляет проблема интеграции кочевых обществ в российское пространство, в частности в контексте политики государства в отношении привилегированных и зависимых страт населения. Цель статьи — в нормативно-правовом аспекте изучить эво-
1 Исследование проведено в рамках государственной субсидии — проект «Юговосточный пояс России: исследование политической и культурной истории социальных общностей и групп» (номер госрегистрации: 122022700134-6)=The reported study was funded by government subsidy, project no. 122022700134-6 ‘The Southeastern Belt of Russia: Exploring Political and Cultural History of Social Communities and Groups’.
люцию политики Российского государства в отношении калмыков в разрезе положения привилегированных и зависимых слоев (страт) общества сословий и групп. В этой связи необходимо изучить историографию вопроса; рассмотреть социальную стратификацию у калмыков с точки зрения родовой организации общества; исследовать влияние политики государства на эволюцию положения привилегированных и зависимых слоев общества у калмыков в XVII – XIX вв.
Источниковой базой исследования выступают официальные нормативные акты, опубликованные в Полном собрании законов Российском империи, отдельные монографические труды и газетные публикации XIX и начала XX в.
Историография вопроса с хронологической точки зрения подразделяется на дореволюционную (до 1917 г.), советскую (1917– 1991 гг.) и постсоветскую, современную. Дореволюционные труды в основном имели описательный характер, раскрывая сословную организацию калмыцкого общества. В настоящей статье мы остановимся лишь на одном из них, в котором сословная структура представлена с исторической и статистической составляющими. Это труд К. И. Костенкова1.
В советский период работы базировались на марксисткой идеологии и основное внимание уделялось изучению эксплуатируемых слоев общества — крестьянству, податному сословию2. Отдельно выделим работу Ф. И. Плюнова «Калмыцкий народ и Октябрьская революция. 1919–1924 гг.», рукопись которой была опубликована только в 2016 г.3 В постсоветский период происходит масштабное исследование различных сторон социальной структуры и социальной стратификации калмыцкого общества XVIII–XIX вв.4 Несмотря на определенное количество работ в постсоветский и современный период, как представляется, продолжают оставаться дискуссионными вопросы взаимосвязи привилегированных (нойонов, зайсангов) и зависимых слоев калмыцкого общества в контексте форм эксплуатации (зависимости) и каково было влияние политики Российского государства в данном вопросе, а шире — о сущности социальной модели кочевого калмыцкого общества. В этой связи, в настоящей статье рассматривается только законодательный аспект в исторической ретроспективе.
Основная часть
В начале необходимо рассмотреть общую характеристику социальной стратификации калмыцкого общества с точки зрения его родовой организации. Так, И. В. Нахаева отмечает, что сословная иерархия у номадов определялась не только имущественным принципом, но и традицией, складывающейся веками в их среде на протяжении длительного исторического времени. Происхождение и развитие сословий в кочевых обществах, включая калмыцкое, связано с их военным историческим прошлым. Вследствие этого отличительной чертой их общественных отношений являлось сохранение четких вертикальных связей5.
Эту же проблему поднимает в своем труде «Социальнополитический строй и хозяйство калмыков в XVII–XVIII вв.» М. М. Батмаев, говоря о характере социальных отношений, он полагает, что калмыцкое общество было феодальным, поскольку наличествовали управляющие и управляемые, эксплуатирующие и эксплуатируемые, а это признаки классового общества, соответственно характеристика калмыцкого общества XVII– XVIII вв. как родоплеменного неприемлема6. М. М. Батмаев также не характеризует привилегированные слои как классы в силу малочисленности данных социальных групп, он больше склоняется к мысли о характеристике калмыцкого общества того времени как сословной. Также он считает, что основой зависимости податного и других слоев общества по отношению к господствующим сословиям являлась не поземельная собственность, право распоряжения пастбищами или право на скот простолюдинов, а личная зависимость податного населения, т.е. своего рода крепостничество7.
Еще одним аспектом, который следует учитывать, «если слово улус и бытовало в XVII–XVIII вв. в смысле обозначения административно-хозяйственной и политической единицы, то оно могло обозначать только людей или удел того или иного нойона. В смысле же общественного строя калмыцкого общества крупные объединения торгутов, дербетов, хошутов делились на отоки, причем во владении нойона могло быть несколько отоков»8. Так, согласно барону Ф. А. Бюлеру в XVII–XVIII вв. улусы делились на отоки и аймаки. В XIX в. «в деловых бумагах выражение оток заменено словом род, под которым разумеется от 100 до 500 кибиток или семей»9. В этой связи С. Ю. Деев отмечает, что официальное общественное управление не соответствовало действительности, территории улусов существовали только на официальных картах, в реальности улус включал несколько отоков и «общественнохозяйственной и фискальной единицей в калмыцком обществе всегда был оток — часть улуса, определенное количество кибиток, объединенных территориально и выполняющих в пользу нойона повинности»10. Исходя из этого сделан вывод, что «функции улусных и аймачных сходов были фикцией, не отражающей реально существующего положения. То же можно сказать и о проблеме землепользования»11.
В отношении калмыцкой знати также следует упомянуть следующий аспект, в частности в отношении нойонов. Официально российская власть нойонов князьями не признавала, «ни один калмыцкий владелец не обладал официально княжеским титулом»12. Как отмечает М. Н. Гиляшаева, «только отдельные “члены владельческих семейств пользовались княжеским титулом, то не иначе как по особому всемилостивейшему пожалованию”. Конкретно речь шла о князьях Дондуковых — потомках калмыцкого хана Дондук-Омбы»13. М. Н. Гиляшаева приводит документ — докладную записку Министерства государственных имуществ (1 Департамент, отделение 4, стол 2) от 30 декабря 1860 г. № 166, в которой «особо разъяснялось, что слово “нойон” постепенно, со временем “заменяется названием князь. Это название употреблялось не только в разговоре, но переходило нередко в официальные бумаги, писанные на имя владельцев”. При этом подчеркивалось, что официально не возбраняется традиция, когда “все инородцы, носящие почетные звания между своими родовичами, как-то: князьцы, тойоны, тайши, зайсанги, шуленги и прочие пользуются теми почестями, какие в местах их жительства обычаи и степные законы им представляют”14.
В. В. Батыров отмечает, что по Положению 1834 г. нойоны получали права потомственных дворян России, но тем не менее отдельные из них не оставляли попыток добиться княжеского титула до начала XX в., продолжая именовать себя князьями. Основным фактором интеграции калмыцких нойонов в состав российского дворянства являлась государственная служба, в первую очередь военная, а также гражданская15.
Теперь приведем нормативные акты из книги П. Кеппена «Хронологический указатель материалов для истории инородцев Европейской России». В ней обратим внимание на отдельные акты, регламентирующие ханский титул, положение калмыцких владельцев, простолюдинов. В отношении ханского титула содержится ссылка на указ Петра I от 17 июля 1697 г. о договорных статьях между Калмыцким Ханом Аюкою и Князем Борисом Голицыным. После смерти Аюки 22 февраля 1725 г. жалованной грамотой Императрицы Екатерины I сын Хана Аюки, Черген-Дондук утвержден в достоинстве Наместника Калмыцкого ханства. Здесь мы видим, что Аюка именовался ханом в официальных документах, тогда как его сын уже наместником16.
Уже в XVIII в. в российских официальных документах упоминается термин «владелец» у калмыков. Так, 20 января
1724 г. «по именному указу Петра I, между прочим, о Калмыках повелено было, чтобы склонять владельцев и законников их в Христианство ученьем и дачею, и книги нужные перевести на их язык»17. 19 апреля 1725 г. «в Сенатском указе о суммах на расходы Иностранной Коллегии и о пр., значится, что на Калмыцких владельцев, Черкасских, Кабардинских Князей и др. и на присылаемых от них посланцев отпускаемо было 7000 р. в год»18. 4 января 1727 г. Генерал-Фельдмаршалу Князю Голицыну повелено было выбрать из слободских и польских казаков 900 человек для охранения калмыцких владельцев от их неприятелей19. 11 августа и 16 ноября 1736 г. «Высочайшею грамотою Главному Калмыцкому Управителю Дондук-Омбо, за верную его службу во время Турецкой войны, увеличен был ему оклад жалованья и назначены денежные оклады другим калмыцким владельцам, всего по 5000 р. и муки по 2000 четвертей ежегодно»20.
Вышеназванные указы и распоряжения свидетельствуют о том, что уже с начала XVIII в. российское правительство уделяло внимание калмыцким владельцам как правящему сословию, оказывая ему материальную поддержку, а также в ряде случаев военнополитическую.
19 октября 1803 г. торгоутовский владелец Санджи Убаши, усыновленный умершею владелицею Калмыцкого Яндыкова улуса Бутюкою, утвержден родовым владельцем улуса21. Из этого нормативного акта мы видим, что российское правительство с начала XIX в. утверждало и владельцев улусов.
19 мая 1836 г. в должности Асессоров Совета Калмыцкого Управления и Суда Зарго дозволено избирать почетных зайсангов22. 8 марта 1837 г. владельцам Калмыцких улусов, в случае продолжительной болезни или долговременной отлучки из улуса, дозволено передавать управление улусом одному из родственников своих нойонов, с предоставлением ему пользоваться пятою долею доходов23. 28 мая 1839 г. по статуту ордена Св. Станислава, § 78, нойонам и зайсангам Калмыцкого народа, имеющим данный орден, предоставлено было право на потомственное дворянство24. 2 марта 1853 г. к предметам обязанностей Палат Государственных Имуществ по управлению калмыками, кочующими в Астраханской и Ставропольской губерниях, отнесены также ревизия отчетов по опекам над имениями калмыцких нойонов владельцев и зайсангов и наблюдение за правильным ведением этих опек25. 18 мая 1854 г. безаймачных зайсангов и детей их разрешено оставить при предоставленных правах их, утвержденных 28 апреля 1847 г., еще на 5 лет26. Данными нормативными актами регулировались права и обязанности не только владельцев улусов, но и зайсангов как привилегированного сословия.
Теперь рассмотрим положение зависимого сословия калмыцкого народа. 16 ноября 1737 г. в манифесте о правилах переписи крестьян и разночинцев предоставлено было, между прочим, право всякому покупать, крестить и держать у себя калмыков и других наций людей, без платежа за них подушных денег27. 12 мая 1744 г. калмыков, которые без дозволения своих помещиков будут проситься на волю, повелено было наказывать батогами и возвращать помещикам28. 26 ноября 1745 г. опубликованы от Сената правила для распределения в подушный оклад крещенных и некрещеных, свободных и несвободных калмыков и башкирцев29. 10 сентября 1838 г. определен срок на избрание рода жизни вольноотпущенных из калмыков, киргизов и других азиатцев30.
Указанными актами «в государственном законодательстве нашла отражение официальная купля-продажа калмыков в числе прочих “инородцев” России»31. Как отмечала Л.С. Бурчинова, «в одних случаях их продавали и дарили сами калмыцкие владельцы, в других — они попадали в число насильно захваченных обмененных и проданных подобно российским крепостным людям, торговля которыми являлась вполне законным и обычным явлением в период существования крепостного права в стране»32.
М.М. Батмаев считает, что смысл правительственных указов 30-40-х гг. XVIII в. был другой. В указе 1737 г. нет речи о прямом разрешении калмыцким владельцам продавать своих подвластных людей, хотя косвенно подтверждается, что калмыки продаются. В указе от 12 мая 1744 г. речь идет о тех калмыках, которые ранее уже были проданы русским помещикам и т.п., и хотели освободиться от крепостной зависимости33.
Современник XIX в. К. И. Костенков в своем труде «Исторические и статистические сведения о калмыках, кочующих в Астраханской губернии» приводит исторический очерк прав калмыцких нойонов-владельцев и зайсангов, а также образование улусов и переход прав на них нойонов-владельцев. Интерес представляет следующий его вывод: «Русское Правительство, принимая калмыцкий народ под свое покровительство, оставляло первоначально неприкосновенными сословные его отношения; но после бегства большей части калмыков из России, в 1771 г., Правительство, предоставив нойонам управлять каждому своим улусом отдельно, начало вводить без всякого основания крепостное право у калмыков, тогда как при военно-кочевом быте этого народа, нойоны или родоправители не имели права владеть землею, а тем менее людьми»34.
К. И. Костенков отмечал, что «если при издании манифеста 1737 г. была проведена мысль законодателя об оставлении у хозяев неотъемлемыми только таких калмыков, которые были взяты с малолетства, окрещены и стоили хозяевам не малых расходов на воспитание и обучение их, то последовавший, для разъяснения этого манифеста, указ 1744 г. окончательно закреплял калмыков за их покупателями, устрашая калмыков даже батогами за желание освободиться на волю. Эти два указа дали повод к громаднейшим злоупотреблениям; торговля калмыками начала открыто производиться на рынках ближайших к калмыцкой степи городов и селений, люди продавались иногда за самую ничтожную цену. Калмыцкие нойоны и зайсанги воровали и отбивали друг у друга целые семьи для продажи»35. Он утверждал, что поддерживаемое, издаваемыми законоположениями крепостное право слагалось незаметно. «Так указом Сената 27 июня 1785 г. за № 3517, было подтверждено, что нойоны имели право продавать и дарить подвластных им калмыков»36. Однако, названный Указ до настоящего времени не выявлен исследователями.
Следует отметить, что по Положению об управлении калмыцким народом 1834 г. (§ 141) нойоны-владельцы и аймачные зайсанги уже не имели права продавать, закладывать и дарить подвластных им калмыков кому бы то ни было37.
Приведем примеры реформирования положения нойонов и зайсангов по материалам газеты «Астраханский листок» конца XIXв.
Положение 1834 г., оставив прежнее деление степи, на улусы и управление их нойонами (родовыми правителями), существенно изменило многие калмыцкие обычаи; вместо существовавшего ранее общего пользования степью всеми улусами были сделаны территориальные ограничения улусов, с предоставлением для общего пользования лишь так называемых «черных земель», расположенных в южной части степи; власть нойонов была значительна ограничена: они лишались права распоряжаться калмыками, как крепостными людьми, и должны были довольствоваться установленной положением податью по 7 руб. 14 коп. с кибитки в год, тогда как раньше подать эта была совершенна не ограничена; кроме того, нойонам запрещалось делить улусы между своими наследниками, а в случае прекращения нойонского рода улусы должны были переходить в казну, причем правительство назначало в такие улусы правителей по своему усмотрению. Ограничены были и зайсанги, второе привилегированное сословие калмыков, владевшие аймаками (часть улусов, делившаяся в свою очередь на хотоны) и хотя положением 1834 г. была признана наследственность зайсангского звания, но правление аймаками по положению переходило лишь к старшему в роде, остальные же родственники преемствовали только звание, без всякого вмешательства в управление делами аймака, образовав, таким образом, новое сословие «безаймачных» зайсангов. В пользу аймачных зайсангов был установлен сбор по 57 коп. с кибитки.
Судебную часть положение 1834 г. реформировало введением в суд «зарго», кроме депутатов от калмыков, русских чиновников и совершенным изъятием суда из ведения нойонов, причем в случае недостатка или неполноты древних калмыцких законоположений, повелевалось применять русские законы. Наконец, в каждом улусе были введены улусные управления с русскими чиновниками. С изданием положения 1834 г. самостоятельность калмыков была утрачена «совершенно и они приведены в состояние обитающих в России инородцев, управляемых по русским законам, применяемым к своеобразным условиям их быта»38.
Вскоре после издания положения 1834 г., а именно в 1838г. калмыки перешли в ведение министерства государственных имуществ, которое и выработало новое, несколько измененное и дополненное положение об управлении калмыцким народом, от 23 апреля 1847 г. При издании указанного нового положения сословные права нойонов остались без изменения. Параграфом 23 им было предоставлено сохранить все принадлежащие по происхождению права и управление подвластными калмыками и в случае принятия самими нойонами христианства и даже тогда, когда обратятся в христианство подвластные им калмыки. Вступая в управление улусом по праву наследства — нойоны за дурное поведение устранялись от управления главным попечителем калмыцкого народа с утверждения начальника губернии. Права собственности на земли нойоны не имели, потому что земли были отведены всему калмыцкому народу и считались у него на правах общего пользования. Нойоны председательствовали в улусных управлениях и улусных судах и разрешали дела совместно с улусными попечителями (чиновниками), считавшимися членами означенных мест и подчинявшиеся главному попечителю. Этим положением окончательно были ограничены самовластие и произвол нойонов, и они были оставлены только наследственными управителями подвластных им калмыков, получая с последних назначенное правительством вознаграждение. Название же владелец, хотя и было оставлено нойонам, но оно не имело никакого значения, т.к. нойоны юридически не владели ни землей, ни людьми и, как полагалось, слово «владелец», как чуждое калмыцкому народу, не имело в их языке соответствующего названия39.
Утверждалось, что о зайсангах, как и о нойонах, история не предоставляла также никаких данных, т.е. ничего не было известно: когда, кем и вследствие чего установилось это звание. Предполагалось, что первоначально это были дальние родственники нойонов, поручавших ближайший надзор за подвластными им калмыками и разбирательство происходивших между последними маловажных споров и дел, и что для этой цели народ делился на аймаки. Другим основанием к установлению этого звания было то, что некоторые нойоны, по неимению родственников, должны были поручать ближайший надзор за кочевьями подвластного народа особым доверенным лицам из простолюдинов, отличая их от последних освобождением податей, или жаловать им звание зайсанга за личные услуги и верную службу. Эти зайсанги, получая настоящее звание, пользовались по праву предоставленному им нойоном, известной повинностью от порученных им аймаков, например, прислугою, скотом для пищи и т.п.; особенные заслуги этих лиц делали права управления аймаком наследственными. Но как в том, так и в другом случаях зайсангам не было предоставлено права самостоятельного управления народом, а только власть доверенного лица своего нойона. Сын зайсанга, после отца, получал это звание, но прочие дети и родственники оставались простолюдинами. Хотя зайсанги, без особенных причин, и не лишались управления аймаками, но всегда состояли во власти нойона и за самые малые проступки могли лишиться права управления.
С переходом калмыков в Россию, сословие зайсангов продолжило существовать, но российское правительство никак не регулировало их статус. Только в 1786 г. указом Кавказского наместничества, были потребованы сведения о зайсангах: сколько их, сколько они денег собирают, кто их поставил зайсангами и «по каким правам и в каком сорте людей они признаются»40. Но вопросы эти остались без ответа. В 1787 г. правительство этого же наместничества предписывало калмыцкой канцелярии, при составлении списков зайсангов, не считать детей их и ближайших родственников наравне с калмыками-простолюдинами, а составить им особые списки «дабы впредь в службе занимали места зайсангов, а по прежним их обычаям могли получать в наследие аймаки»41.
О зайсангах, как сословии, упоминается в высочайших грамотах, дарованных калмыцкому народу: Императоров Павла (14 октября 1800 г.), Александра I (13 октября 1802 г.) и Николая I (21 апреля 1828 г.). До 1834 г. права и преимущества зайсангов все-таки были мало урегулированы, но положением 1834 г. даны были права, которых зайсанги не имели в своем прежнем общественном строе, а именно: они были избавлены от произвола нойонов, которые могли лишать их этого звания, и им было предоставлено право почетного гражданства: зайсангам аймачным, т.е. управляющим аймаками — потомственного, а безаймачным — личного. Эти права, освободили, между прочим, зайсангов и от телесного наказания, тогда как по калмыцкому уложению они не были от него изъяты. По случаю возникшего вопроса, — какими правами могли пользоваться дети безаймачных зайсангов — Государственный совет поручил Министру государственных имуществ сделать распоряжение об освобождении детей таких зайсангов от платежа повинностей, лежащих на простых калмыках, в течение пяти лет до времени их обращения к оседлости; если будут вести оседлый образ жизни, то освобождать навсегда от повинностей. В то же время последовало распоряжение о приглашении зайсангов, их детей и родственников к поселению в станицах; объявлено было о предоставленных преимуществах при водворении. Но так как этим приглашением никто из означенных лиц не воспользовался, то вопрос о правах детей безаймачных зайсангов оставался не разрешенным.
В публикациях газеты «Астраханский листок» утверждалось, что «сословие зайсангов, установленное первоначально частными лицами и имевшее значение надзирателей и управителей известной части народа, подвластного нойонам, было утверждено правительством в таких правах, для получения которых, это сословие не имело никакого повода и основания; получило же оно законную санкцию в этих правах собственно потому, что правительство не имело положительных сведений о сословных отношениях калмыцкого народа»42. Далее заключалось, что права эти имели случайное, чем бытовое происхождение. «Но как бы там ни было, права эти, силою законодательства и распоряжений правительства, настолько твердо закреплены за нойонами и зайсангами, что и по сие время существуют»43.
Как известно, зависимое положение калмыков-простолюдинов было окончательно отменено Законом от 16 марта 1892 г.44 Примечателен и следующий документ — Высочайше утвержденное положение Комитета Министров от 11 июня 1893 г. «О привлечении привилегированных сословий калмыцкого народа к платежу уравнительного сбора на содержание вольнонаемной стражи в Калмыцкой степи Астраханской губернии»45. В нем взимание названного сбора постановлялось производить не только с калмыков-простолюдинов, но и с привилегированных сословий калмыцкого народа: нойонов, мелких владельцев зайсангов, а также с лиц Ламайского (буддийского) духовенства по уравнительной между всем калмыцким народом раскладке.
Заключение
Таким образом, на основе законодательных актов Российского государства XVII-XIX вв. о регулировании положения привилегированных и зависимых слоев населения у калмыков можно сделать следующие выводы. Уже с начала XVIII в. правительство обращает внимание на правящее сословие у калмыков, именуя их владельцами, под которыми понимались нойоны, оказывая им материальную и военно-политическую поддержку. Есть определенные признаки, позволяющие судить о том, что правительственные власти узаконивали фактически крепостничество среди калмыков, однако подобный вывод требует специального исследования. Поскольку де-юре и де-факто феодальная зависимость уже существовала в калмыцком обществе с его патриархальнородовыми устоями. Деюре она существовала на основе калмыцкого обычного права. Вместе с тем, уже в первую четверть XIX в. российскими актами отменяется право нойонов и аймачных зайсангов продавать, закладывать и дарить подвластных калмыков, оставалась лишь экономическая зависимость в виде податей в пользу привилегированных слоев. К концу XIX в. и указанная зависимость была отменена. На примере калмыков мы видим, что российские власти, первоначально, не имея широкого представления об устройстве калмыцкого общества, опираясь на местные обычаи и традиции, использовали власть привилегированных слоев у калмыков для контроля над населением улусов. Власть владельцев базировалась не посредством собственности на землю и скот подвластных, а исходя из личной феодальной зависимости населения. Российские власти, реформируя ее, встроили в правовое поле Империи. Это был один из способов закрепления российского влияния. Второй способ подразумевал непосредственное управление с помощью правительственных чиновников.