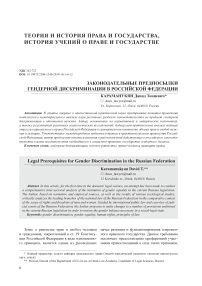Законодательные предпосылки гендерной дискриминации в Российской Федерации
Автор: Караманукян Давид Тониевич
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 1 т.16, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые в отечественной юридической науке предпринята попытка проведения комплексного межотраслевого анализа норм различных разделов законодательства на предмет гендерной дискриминации в отношении мужчин. Автор, основываясь на нормативных и эмпирических источниках, а также результатах различных социологических исследований, подвергает критическому анализу ведущие отрасли национального права Российской Федерации в сравнительном контексте объема прав и свобод мужчин и женщин. Руководствуясь международным публичным правом и практикой органов правосудия Российской Федерации, автор предлагает внести изменения в ряд положений действующего российского законодательства в целях восстановления необходимого в социально-правовом государстве гендерного баланса.
Гендерная дискриминация, половое равенство, права человека, принципы права
Короткий адрес: https://sciup.org/143166968
IDR: 143166968 | УДК: 342.722 | DOI: 10.19073/2306-1340-2019-16-1-6-12
Текст научной статьи Законодательные предпосылки гендерной дискриминации в Российской Федерации
Тезис о равенстве прав и свобод человека и гражданина, закрепленный в ст. 19 Конституции Российской Федерации в виде одноименного принципа, является одним из руководящих начал развития и функционирования современного правового государства. Данное требование исключает предоставление преференций участникам правоотношений в силу таких признаков, как пол, раса, религиозные или политические убеждения. Вместе с тем в действующем российском законодательстве и правоприменительной практике продолжает функционировать и в той или иной мере развиваться институт гендерной дискриминации.
Гендерная дискриминация разрушает идеи справедливости и ведет к нарушению основополагающего принципа построения демократического государства – равенства прав и свобод человека и гражданина «независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств» (ч. 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации).
Необходимость правового исследования вопроса гендерной дискриминации заключается в том, что в настоящее время он преимущественно изучается лишь неюридическими науками, к которым, в частности, относятся социология, экономика, история, культурология и иные гуманитарные науки. Гендерный подход законодателя к правовому регулированию отношений, возникающих в современном обществе, ни разу не становился предметом межотраслевого исследования в отечественной юридической литературе.
Наличие исторически сложившихся социальных моделей поведения, соответствующих тому или иному полу, является непосредственной причиной гендерной дискриминации. Только сформировав определенные идеи уважения к полу, его равенству в обществе, устранив сложившиеся стереотипы о социальной роли мужчины и женщины, можно добиться устранения предвзятости, несправедливости и неравенства в определенных правах мужчин и женщин.
Юридическое равенство мужчин и женщин, закрепленное в ч. 3 ст. 19 Конституции Российской Федерации («Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации»), должно означать равенство не только в правах и свободах, но и в юридических обязанностях, а также равные основания для возложения юридической ответственности.
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) в ст. 4 закрепляет конституционный принцип равенства граждан перед законом: «Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола». Вместе с тем принцип справедливости, также получивший законодательное закрепление в ст. 6 УК РФ, предполагает установление определенных требований соответствия уголовного наказания «характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного». Практически во всех странах мира при создании той или иной уголовно-правовой (криминально-правовой) нормы учитываются особенности пола мужчин и женщин [1, с. 133– 151; 2, с. 96–98; 5, с. 409–413].
Российское законодательство не является исключением. Так, ч. 4 ст. 49 УК РФ закрепляет положение, согласно которому беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, обязательные работы не назначаются. Исправительные работы как вид уголовного наказания, закрепленный в ч. 5 ст. 50 УК РФ, также не применяются к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет.
Во включении в отраслевой акт данных норм видится логичное стремление законодателя обеспечить защиту прав и интересов ребенка, обозначенных в ст.ст. 54–60 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) и Конвенции о правах ребенка. Однако ситуация, когда отец-одиночка имеет ребенка в возрасте до трех лет, не охватывается диспозицией данной статьи, что, по сути, выступает проявлением той самой дискриминации.
Проблема неравенства осужденных родителей в отношении малолетнего ребенка исходит из сложившегося российского менталитета, где общепринято, что мать обладает большей связью с ребенком, нежели отец.
В качестве примера, подтверждающего господствующую в обществе точку зрения, можно привести результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения1. В опросе приняло участие 1600 человек в 153 населенных пунктах России. На вопрос «Кому лучше оставлять детей после развода: матери или отцу?» получены следующие ответы: 38 % опрошенных считают, что матери воспитывают детей лучше, чем отцы; 2 % высказали свое мнение в пользу отцов; 43 % полагают, что качество воспитания зависит от «конкретных людей», а 14 % респондентов уверены, что в одиночку дать должное воспитание не может ни мать, ни отец. Затруднились дать ответ на поставленный вопрос всего 3 %2.
Развивая вышеприведенное заявление, следует акцентировать внимание на неприменении к лицам женского пола смертной казни (ч. 2 ст. 59 УК РФ) и пожизненного лишения свободы (ч. 2 ст. 57 УК РФ). Справедливости ради необходимо отметить, что уголовный законодатель также запрещает назначение наказания «мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста» (ч. 2 ст. 59 УК РФ). Данное допущение является вполне приемлемым, так как представляет собой проявление принципа гуманизма, но запрет на назначение смертной казни женщинам – проявление дискриминации в отношении мужчин. «Международный пакт о гражданских и политических правах» также вводит ограничение на назначение смертного приговора, но в отношении лишь беременных женщин3. Однако остается непонятным «перевыполнение» нашим законодателем международного требования в виде освобождения всех женщин от угрозы назначения смертной казни и пожизненного заключения. Если обратиться к правоприменительной практике, то можно найти интересное легальное толкование этому. Так, в определении от 24 сентября 2013 г. № 1428-О Конституционный Суд Российской Федерации поясняет, что «предусмотренные частью второй статьи 57 УК Российской Федерации ограничения в назначении пожизненного лишения свободы, связанные с неприменением этого наказания к женщинам, лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста, не исключают их уголовную ответ- ственность, а обеспечивают ее дифференциацию исходя из принципа гуманизма»4. В чем именно проявляется принцип гуманизма в части запрета назначения наказания женщинам наряду с несовершеннолетними и престарелыми, Конституционный Суд Российской Федерации не поясняет.
Показательным также является то, что женщины отбывают наказание только в колониях общего режима в соответствии со ст. 58 УК РФ. Однако для мужчин, осужденных к лишению свободы, предусмотрены три режима для отбытия наказания: особый, строгий и общий.
Большой интерес в этой части вызывает определение Конституционного Суда РФ от 29 мая 2007 г. № 415-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Корогодина Сергея Алексеевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 90 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-ции»5. Гражданин С. А. Корогодин, отбывающий в колонии строгого режима наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, просит признать противоречащей Конституции Российской Федерации ч. 1 ст. 90 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) как не обеспечивающую равные права осужденных к лишению свободы, независимо от их пола и возраста, а также от вида исправительного учреждения, на получение посылок, передач и бандеролей.
В ответ на обращение Конституционный Суд Российской Федерации в свойственной ему по данной категории дел манере немногословно определяет, что «использование законодателем в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации дифференцированного подхода к регламентации условий отбывания осужденными наказания, в том числе в части определения порядка получения ими посылок, передач и бандеролей, в зависимости от вида исправительного учреждения, а также от социальных, возрастных и физиологических особенностей различных категорий осужденных, само по себе не нарушает закрепленный в статье 19 Конституции Российской Федерации принцип равенства всех перед законом и судом.
Установление при этом более льготных условий для осужденных женщин и несовершеннолетних является проявлением гуманизма по отношению к ним и не может расцениваться как нарушение конституционных прав иных категорий осужденных, включая заявителя».
Очевидно, что вышеуказанные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации содержат дефекты толкования принципа гуманизма. Более того, в мотивировочной части указанных актов присутствует лишь фраза, связанная с принципом гуманизма.
Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации должно исходить из принципа гендерного равенства – порядок содержания осужденных мужчин и женщин должен быть одинаковым. Вопреки этому, некоторые нормы предусматривают учет половых особенностей, предоставляя лицам женского пола особые льготы и привилегии по сравнению с осужденными мужчинами.
Так, особенности материально-бытового обеспечения осужденных беременных женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих детей, предусмотрены ст. 100 УИК РФ. В соответствии с ч. 1 данной статьи в исправительных учреждениях, где отбывают наказание женщины, имеющие детей, могут создаваться дома ребенка, обеспеченные всеми условиями, которые необходимы для нормального проживания и развития детей. Также не предусматривается никаких ограничений в общении с детьми, помещенными в дома ребенка в возрасте до трех лет.
Законодатель делает это, прежде всего, в целях создания наиболее комфортных условий содержания беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, во избежание негативных последствий, которые могут сказаться как на здоровье матери, так и на здоровье и психическом состоянии ребенка. Аналогичных условий для мужчин, являющихся единственным родителем малолетних детей в возрасте до трех лет, нет.
Кроме того, имеется и набор привилегий, не связанных с осуществлением женщиной детородных и воспитательных функций. Так, женщинам предоставляется большая по размеру жилая площадь. В части 1 ст. 99 УИК РФ указывается, что жилая площадь «в колониях, предназначенных для отбывания наказания осужденными женщинами, не может быть менее трех квадратных метров», а для мужчин – «не может быть менее двух квадратных метров». Если гендерная преференция законодательно делается исходя из «необходимости учета в уголовном законе социальных, возрастных и физиологических особенностей различных категорий лиц в целях обеспечения более полного и эффективного решения задач, которые стоят перед уголовным наказанием в демократическом правовом государстве»6, то в силу каких социальных и физиологических особенностей женщинам-заключенным предоставляется дополнительный квадратный метр в местах лишения свободы, остается лишь догадываться.
Неравным также является порядок применения мер взыскания к осужденным мужчинам и женщинам: в соответствии со ст. 115 УИК РФ предусмотрен «перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в единые помещения камерного типа на срок до одного года» (п. «д» ч. 1 ст. 115), для женщин же этот срок ограничивается всего тремя месяцами (п. «е» ч. 1 ст. 115).
После анализа норм уголовного и уголовноисполнительного права остается неясной позиция законодателя в части оказания женщинам определенных преференций. Увеличивает долю непонимания статистика относительно совершенных женщинами преступлений.
Таблица 1
|
Показатель |
Год |
||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
Количество выявленных лиц, совершивших преступления, – всего |
1041,3 |
1010,9 |
1012,6 |
1006,0 |
1075,3 |
1015,9 |
967,1 |
|
Из них совершено женщинами |
153,3 |
154,4 |
156,3 |
158,2 |
172,2 |
148,0 |
146,9 |
6 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение конституционных прав гражданина Ивукова Константина Александровича положением части 2 статьи 3.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях : определение Конституц. Суда Рос. Федерации от 13 июня 2006 г. № 195-О. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
Официальные данные о преступлениях, совершенных лицами женского пола за последние пять лет, предоставленные Федеральной службой государственной статистики, показывают, что с 2011 по 2017 г. число субъектов преступлений женского пола ежегодно составляет более 100 тыс. чел. (табл. 1). В 2017 г. из 967 тыс. выявленных лиц, совершивших преступления, более 146 тыс. были совершены женщинами, что составляет около 15 %7.
Проанализировав виды наказаний и особенности их назначения в уголовно-правовой сфере, мы сочли разумным провести аналогичное исследование административно-правовой ответственности. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в п. 6 ч. 1 ст. 3.2 закрепляет административный арест как один из основных видов наказания. Специальная норма общей части КоАП РФ об административном аресте с одноименным названием устанавливает невозможность его применения к «беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет» (ч. 2 ст. 3.9). Сходной нормы для мужчин, которые являются одинокими родителями, имеющими детей в возрасте до четырнадцати лет, законодатель не предусмотрел.
Ранее уже было упомянуто о неприменении к женщинам такого вида наказания, как обязательные работы, в уголовном праве. В административном праве имеется подобная норма. Так, ч. 3 ст. 3.13 КоАП РФ запрещает применение обязательных работ к «…женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет». Таких же преимуществ для мужчин административный закон, аналогично уголовному праву, не предоставляет.
Такое основание, как наличие малолетнего ребенка, входит в перечень обстоятельств, смягчающих административную ответственность женщин (п. 10 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ), в то время как для мужчин аналогичная привилегия не предусмотрена. Данный факт свидетельствует о проявлении гендерной дискриминации в действующем административном законодательстве и противоречит принципу, закрепленному в ч. 1 ст. 1.4 КоАП РФ: «Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. Физические лица подлежат административной ответственности независимо от пола».
Вновь проанализировав правоприменительную практику Конституционного Суда, можно выделить определение от 13 июня 2006 г. № 195-О, в котором главный орган правосудия страны, рассматривая «вопрос о дифференциации ответственности за совершение преступлений в зависимости от пола и возраста виновных лиц», устанавливает: «Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 21 декабря 2004 года № 466-О по жалобе гражданина А. В. Герасимова признал, что содержащийся в статьях 57 и 59 УК Российской Федерации запрет назначать пожизненное лишение свободы и смертную казнь женщинам, лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора шестидесятипятилетнего возраста, основывается на вытекающей из принципов справедливости и гуманизма необходимости учета в уголовном законе социальных, возрастных и физиологических особенностей различных категорий лиц в целях обеспечения более полного и эффективного решения задач, которые стоят перед уголовным наказанием в демократическом правовом государстве, и не может рассматриваться как нарушающий Конституцию Российской Федерации, в том числе ее статью 19. Названные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сохраняющие свою силу и сформулированные применительно к нормативным положениям, регламентирующим применение уголовной ответственности и наказания, в силу универсальности положенных в их основу принципов справедливости и гуманизма, могут быть распространены и на законодательное регулирование мер административного наказания».
Семейно-брачным отношениям, выступающим в качестве предмета отрасли семейного права, также присуща гендерная дискриминация. СК РФ в ст. 61 закрепляет положение, согласно которому «родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права)». Конституция Российской Федерации в ч. 2 ст. 38 также закрепляет заботу о детях и их воспитание как равное право и обязанность родителей.
Российское семейное законодательство предоставляет ряд гарантий матерям, которые составляют необходимость для должного ухода за малолетними детьми. Вместе с тем отсутствует должное правовое регулирование вопроса воспитания малолетних детей отцом. При этом дискриминация в родительских правах по признаку пола затрагивает в первую очередь интересы самих детей.
Норма, содержащаяся в ст. 90 СК РФ, устанавливает, что муж (бывший муж) обязан выплачивать жене алименты в течение трех лет со дня рождения их общего ребенка для предоставления надлежащего материнского ухода в первые годы жизни. Однако мужу (бывшему мужу), самостоятельно воспитывающему ребенка в возрасте до трех лет, не предоставляется такой возможности, если ребенок не относится к категории «ребенок-инвалид». Данная норма является нарушением закрепленных в Конституции Российской Федерации и семейном законодательстве принципов равноправия и равенства обоих родителей в осуществлении своих прав и обязанностей.
Не менее значимое притеснение прав мужчин присутствует в ст. 17 СК РФ, предусматривающей ограничение права на предъявление мужем требования о расторжении брака. Данная норма является противоречащей принципу равенства супругов (ст. 31 СК РФ). Законодатель предусматривает два обстоятельства, при которых муж не может потребовать расторжение брака без согласия жены: 1) во время беременности; 2) в течение года после рождения ребенка.
Однако для жены аналогичных ограничений нет, поэтому она имеет право в любое время обратиться с требованиями о расторжении брака. Кроме того, норма является императивной и не предполагает какого-либо выбора и учета конкретных обстоятельств. Поэтому могут возникать различные ситуации, являющиеся спорными с точки зрения морали и нравственности. Включая данную норму в СК РФ, законодатель руководствовался стремлением оградить женщину от волнений и переживай, связанных с разводом, в период беременности и в первый год после рождения ребенка. Отсутствие каких-либо исключений в норме делает ее несправедливой в отношении мужей. Пленум Верховного Суда в своем постановлении указывает, что даже в том случае, когда муж не является отцом ребенка, но согласие жены на воз- буждение дела о расторжении брака отсутствует, судья в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации отказывает в принятии искового заявления, а если оно было принято, суд на основании абзаца второго ст. 220 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации прекращает производство по делу [3]8. «Оспаривание отцовства в судебном порядке и наличие судебного решения, удовлетворившего иск об оспаривании отцовства мужа, никак не влияет на существование ограничения, закрепленного в ст. 17 СК РФ» [4, c. 28–31].
Развивая доктринальное исследование данного вопроса, следует акцентировать внимание на таком институте, как материнский (семейный) капитал. Правила получения и использования материнского (семейного) капитала также имеют свои ограничения в зависимости от пола. Размер материнского (семейного) капитала, а также перечень лиц, имеющих право на его получение, содержится в Федеральном законе от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-тей»9.
К основным целям, на которые может быть направлена данная мера государственной поддержки, относятся: получение образования, улучшение жилищных условий, повышение уровня пенсионного обеспечения, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, и др. (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ). Закон предусматривает направление средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии матери. У отца (усыновителя), воспитывающего детей без участия матери и получившего право на приобретение данной меры государственной поддержки, отсутствует право на финансирование накопительной части своей трудовой пенсии.
Отец (усыновитель) может воспользоваться правом получения материнского (семейного) капитала только в том случае, если он является единственным усыновителем второго и последующего ребенка и это право перешло к нему от матери второго и последующих детей (ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ).
В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 1518-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лукьяницы Александра Владимировича на нарушение его конституционных прав и конституционных прав его несовершеннолетних детей Лукьяницы Владимира Александровича и Лукьяницы Николая Александровича положениями статьи 3 Федерального закона “О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей”» Конституционный Суд Российской Федерации установил, что «право мужчины на дополнительные меры государственной поддержки по случаю рождения ребенка является производным от права женщины и может быть реализовано лишь в случае, когда возникшее у женщины право на указанные меры прекратилось по основаниям, предусмотренным законом»10.
О приоритетности в предоставлении женщинам права на получение мер государственной поддержки, обусловленное «особой, связанной с материнством, социальной ролью в обществе», также высказался Конституционный Суд Российской Федерации в своем определении11. Существование такого неравенства, по мнению
Конституционного Суда Российской Федерации, связано с различными социальными рисками, которым подвержены мужчины и женщины.
Однако один из судей Конституционного Суда Российской Федерации Г. А. Гаджиев высказал свое мнение по данному вопросу. Он посчитал, что нормы ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ противоречат Конституции Российской Федерации, а именно принципу всеобщего равенства перед законом и судом, провозглашенному в ней. По его мнению, оспариваемые положения закона являются противоречивыми с точки зрения недопустимости дискриминации.
Резюмируя проведенное исследование, можно констатировать следующее: в целях повышения эффективности правового регулирования и реализации основополагающих стандартов прав человека отечественному законодателю следует учесть досадные ошибки юридической техники по вопросу соблюдения принципа равенства всех перед законом и, как результат, создать необходимый баланс прав и свобод для качественного правового воздействия на общественные отношения.
Список литературы Законодательные предпосылки гендерной дискриминации в Российской Федерации
- Воронина О. А. Гендерное равенство как структурный элемент государственной политики в скандинавских странах//Новый взгляд. Международный научный вестник. 2014. № 4. С. 133-151.
- Иноземцева Е. Н. К вопросу о положении женщин в исламе//Власть. 2009. № 12. С. 96-98.
- Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам/Е. А. Борисова ; под ред. В. М. Жуйкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. 832 с.
- Шершень Т. В. Принцип равенства прав супругов: генезис и некоторые проблемы его реализации в современном семейном праве России//Российская юстиция. 2010. № 7. С. 28-31.
- Штылева М. В. Политика гендерного равенства стран Северной Европы//Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2011. № 3. С. 409-413.