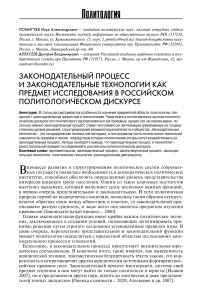Законодательный процесс и законодательные технологии как предмет исследования в российском политологическом дискурсе
Автор: Помигуев Илья Александрович, Алексеев Дмитрий Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности изучения предметной области политологии, связанной с законодательным процессом и технологиями. Чаще всего в отечественном научном политологическом дискурсе эти понятия могут рассматриваться как правовые, однако это не совсем верно, поскольку именно законодательный процесс служит инструментом легитимации принимаемых на государственном уровне решений, структурирования взаимоотношений власти и общества. Законодательные технологии - это не юридическая техника или методики, а полноправная часть политических технологий, совокупность приемов и техник, посредством которых политические акторы могут воздействовать на законодательный процесс. Авторы приходят к выводу, что законодательные процесс и технологии - самостоятельный предмет исследований в российском политологическом дискурсе.
Парламентаризм, законодательный процесс, законотворческий процесс, законодательные технологии, политические технологии, законодательная деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/170171386
IDR: 170171386 | DOI: 10.31171/vlast.v28i3.7340
Текст научной статьи Законодательный процесс и законодательные технологии как предмет исследования в российском политологическом дискурсе
В процессе развития и структурирования политических систем современных государств появилась необходимость в демократических политических институтах, способных обеспечить определенный уровень представительства интересов широких групп населения. Одним из таких ключевых институтов выступил парламент, который выполняет сразу несколько важных функций, в первую очередь представительную и законодательную. И если политическая природа первой не подвергается сомнению, поскольку таким образом осуществляется обратная связь между обществом и властью, то законодательной приписывают разную сущность, и чаще всего она является предметом изучения правоведов [Законодательный процесс… 2000].
Однако законодательная функция имеет крайне важное политическое значение, заключающееся в создании условий, позволяющих легитимировать принятые решения путем строгого следования установленным правилам игры. В свою очередь, переплетение представительной и законодательной функции мешает политологам определиться с предметной областью исследования законодательного процесса и технологий.
Безусловно, в законодательном процессе присутствует внушительная юридическая составляющая. В конечном итоге, такие нюансы, как выверенность юридической техники, лингвистическая безупречность текста закона, его корректность и непротиворечие другим юридическим источникам формируют российское правовое поле. Законодательный процесс многогранен, поэтому свой предмет изучения в нем могут найти не только политологи и юристы [Исаков 2007], но и представители других наук, вплоть до лингвистов и даже представителей точных дисциплин [Оценка сложности… 2020; Алескеров и др. 2007].
Законодательный процесс как предмет исследованияв российском политологическом дискурсе
Сложность определения законодательного процесса как отдельного предмета исследования в российской политической науке связано с тем, что это явление рассматривается сразу в рамках различных тематических направлений, в частности таких, как:
– изучение российского парламентаризма и его функций (А.М. Салмин, Ю.А. Игрицкий, В.Л. Шейнис и др.)1;
– изучение политических элит (О.В. Гаман-Голутвина, Г.К. Ашин, А.В. Дука и др.);
– изучение процесса принятия политических решений (А.В. Соловьев, Л.В. Сморгунов, А.А. Дегтярев, Д.В. Сосунов и др.);
– изучение партий и партийных систем, в т.ч. в контексте выборов как инструмента отбора представителей в парламент (Ю.Г. Коргунюк, А.В. Кынев, Б.И. Макаренко, Р.Ф Туровский и др.);
– изучение взаимодействия групп интересов с органами государственной власти (А.П. Любимов, С.П. Перегудов, П.А. Толстых и др.), в т.ч. в рамках междисциплинарного направления экономической политологии, предложенного А.Д. Богатуровым [Экономическая политология… 2012].
Ко всему прочему, законодательный процесс может рассматриваться в контексте изучения особенностей политического режима, взаимодействия ветвей власти, причем как на общегосударственном, так и на региональном уровне (В.Я. Гельман, Г.В. Голосов, О.И. Зазнаев, О.Г. Харитонова и др.). Именно в этой сфере исследования наиболее ярко выражена предметная область законодательного процесса как политического явления – выявление и анализ взаимодействия политических акторов в рамках деятельности парламента. Это вполне обоснованно, ведь он представляет законодательную, а не представительную ветвь власти.
Таким образом, законодательный процесс как политическое явление связан с деятельностью парламента, его взаимодействием с другими ветвями власти – судебной, исполнительной и в случае с Россией – президентской [Remington 2008]. На федеральный законодательный процесс могут влиять правительство (в ряде работ отмечается значительный крен в сторону исполнительной власти [Гельман 2013]), региональные парламенты, бизнес-объединения и др. Отдельной темой выступает изучение политического потенциала судов во взаимоотношениях с парламентом и в законодательном процессе в целом [Комшукова 2019].
Таким образом, законодательный процесс, будучи совокупностью строгих процедур в юридическом смысле, в то же время становится ареной противостояния и взаимодействия многих политических сил. Уже то, что на площадке парламента и именно в рамках законодательного процесса происходит коммуникация между многими политическими акторами, делает его интересным для политологов в качестве отдельного предмета исследования. Законодательный процесс раскрывался в ряде работ, в т.ч. и зарубежных авторов, которые рассматривали его как политическое явление [Глейзнер, Чейсти 1999; Chaisty 2008; Чейсти 2009; Шульман 2014].
Близость законодательного процесса к предметной области исследований политологов и юристов определяет необходимость междисциплинарного подхода к изучению этого явления. В политологической литературе можно встре- тить примеры выделения отдельного междисциплинарного поля – юридической политологии. Посредством права осуществляется влияние государства на общество, и оно же определяет границы деятельности, структуру и функции государственных институтов. В рамках этого направления можно рассматривать «концепцию универсальных прав человека, правосудие переходного периода, коррупцию и ее преодоление, суверенитет государств и глобализацию, “мягкое право”» [Сунгуров, Семикова 2017]. На наш взгляд, в это предметное поле вполне вписывается законодательный процесс как совокупность юридических и политических правил, практик и процедур.
Однако проблема концептуализации законодательного процесса в политологии даже сложнее, чем в юриспруденции. В частности, Е.М. Шульман его политическую природу раскрывает с помощью слова «законотворчество» [Шульман 2014]. Возможно, это удачный вариант избежать «юридических» вопросов к его определению, но сущностно законодательный и законотворческий процесс могут различаться, и это касается именно основного смысла действия.
Законотворческий процесс подчеркивает важность самого процессуального действия – способов и методов согласования интересов, законодательный же заостряет внимание на конечном результате – принятии или непринятии решения. Таким образом, второе понятие в большей мере отражает завершенность процесса; есть видимые цели, поэтому легче сконцентрироваться на технологиях влияния и оценке их эффективности.
В итоге законодательный процесс можно определить как поэтапную деятельность политических акторов по согласованию интересов в целях принятия политического решения, нормативно закрепляемого на общегосударственном уровне [Помигуев 2016].
При этом важно не только то, кто воздействует на законодательный процесс и процедуры с целью согласования интересов, а то, как и какими средствами он это делает. В этой связи необходимо обратить внимание на технологии и их место в рамках законодательного процесса.
Законодательные технологии как предмет исследования в политологии
Технология в широком смысле слова – это возможность применения научного знания к практическим целям человеческой жизни или способы по изменению окружающей реальности человеком1. Чуть более узко технологию определяют отечественные исследователи: как совокупность методов и инструментов для достижения необходимого результата2.
Такое понимание технологий применимо и для сферы политики. В рамках борьбы за власть политические акторы ставят цели и применяют различные приемы для их достижения. Инструментами борьбы за власть, а также воздействия на политический процесс в целом являются политические технологии. По мнению отечественного ученого О.Ф. Шаброва, политические технологии – это «целенаправленно сконструированная совокупность приемов и способов достижения результата, использование которых затрагивает государство и несовпадающие интересы значимых социальных групп» [Шабров 2012].
Из этой дефиниции видно, что законодательный процесс вписывается в качестве объекта воздействия политических технологий. Как уже было упомянуто ранее, законодательный процесс, помимо юридической составляющей, имеет политическую сущность, т.к. в его рамках происходит взаимодействие таких институтов, как Правительство, Президент, Совет федерации, Государственная дума и др. Приемы, техники и способы воздействия на законодательный процесс можно назвать законодательными технологиями.
Законодательные технологии важно не путать и не смешивать с лоббизмом и GR -коммуникацией, т.к. объектом влияния групп интересов являются не только законодательные органы власти, но и правительство, региональные органы власти, международные организации (например, в случае России – это ЕАЭС).
При этом если предположить, что законодательные технологии имеют место в рамках современного законодательного процесса, они являются составной частью совокупности политических технологий. При этом целесообразно выделить их в отдельную категорию, т.к. они имеют свою специфику и особенности.
Одной из таких главных специфических черт являются строгие процедуры, в рамках которых находится законодательный процесс. Они определены прежде всего регламентом Государственной думы. Ни одна законодательная технология не может нарушить разд. ІІІ Регламента «Законодательная процедура»1. Например, законопроект может быть принят только в трех чтениях (см. ст. 116, разд. ІІІ Регламента ГД РФ). Даже в сложных обстоятельствах, таких как стремительное распространение коронавирусной инфекции, профильное законодательство, связанное с противодействием угрозе и мерами поддержки населения, было принято в трех чтениях, пусть и в очень сжатые сроки. Законопроект был внесен 26 марта, уже 30 марта Государственная дума в течение пленарного заседания рассмотрела его сразу в трех чтениях2. В тот же день его рассмотрел Совет федерации, а уже 1 апреля он был опубликован в «Российской газете» и вступил в силу.
Следов применения технологий в российском законодательном процессе можно найти немало. В качестве относительно недавних примеров отметим внесение поправок «с голоса» на самом пленарном заседании. Так появляется шанс на «законодательный блицкриг»: быстрое принятие нужного решения на фоне эффекта неожиданности и недостаточной информированности парламентариев о внезапно возникшей инициативе. Именно так депутат А. Карелин внес поправку о досрочных выборах в Государственную думу. Впрочем, чуть позже она была отозвана автором3.
Правительство также использует законодательные технологии. Например, оно может вносить законодательные инициативы через депутатов. Это нужно для того, чтобы при необходимости скорейшего принятия законопроекта обойти требование проведения оценки регулирующего воздействия, общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru , рассмотрения проекта закона на заседании Комиссии по законотворческой деятельности.
Тема законодательных технологий практически не исследована в отечественной политической науке. В рамках данной статьи мы лишь немного прикоснулись к ней. При этом она достойна пристального внимания исследователей, т.к. именно при воздействии законодательных технологий меняется законодатель- ный процесс, что может повлечь за собой некоторые трансформации политической системы в целом.
Выводы
Законодательные процесс и технологии неразрывно связаны. Для определения их в качестве отдельного предмета изучения политологов требуется глубоко разобраться в природе этих явлений, а также определиться с их основными политическими целями. В частности, законодательный процесс в политологии изучается как поэтапная деятельность политических акторов по согласованию интересов с целью принятия политического решения.
Законодательные технологии сущностно являются частью политических технологий. При этом они имеют свои особенности и специфику. В частности, речь идет о том, что они не могут противоречить процедурам законодательного процесса. В ряде случаев особенности этих процедур могут помочь тому, кто использует те или иные законодательные технологии.
В целом можно сказать, что законодательные процесс и технологии в российском политологическом дискурсе выступают самостоятельными предметами исследования, что предоставляет ученым широкое поле для изучения политических свойств этих явлений.
Список литературы Законодательный процесс и законодательные технологии как предмет исследования в российском политологическом дискурсе
- Алескеров Ф.Т., Благовещенский Н.Ю., Сатаров Г.А., Соколова А.В., Якуба В.И. 2007. Влияние и структурная устойчивость в российском парламенте (1905-1917 и 1993-2005 гг.). М.: Физматлит. 309 с
- Гельман В.Я. 2013. Из огня да в полымя: российская политика после СССР. СПб: БХВ-Петербург. 256 с
- Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: научно-практическое пособие (отв. ред. Р.Ф. Васильев). 2000. М.: Юриспруденция. 317 с
- Исаков В.Б. 2007. Приемы юридической техники на начальных стадиях законодательного процесса. - Юридическая техника. № 1. С. 172-177
- Комшукова О.В. 20 19. Мыслит ли суд политически? Опыт Конституционного суда России. - Политическая наука. № 4. С. 312-331