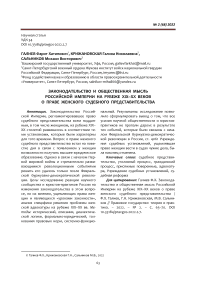Законодательство и общественная мысль Российской империи на рубеже XIX-ХХ веков о праве женского судебного представительства
Автор: Галиев Фарит Хатипович, Крижановская Галина Николаевна, Сальников Михаил Викторович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Актуальные вопросы развития отраслевого
Статья в выпуске: 2 (68), 2022 года.
Бесплатный доступ
Законодательство Российской Империи, регламентировавшее право судебного представительства всем подданным, в том числе женщинам, на рубеже XIX-ХХ столетий развивалось в соответствии теми установками, которые были характерны для того времени. Вопрос о праве женского судебного представительства встал на повестке дня в связи с появлением у женщин возможности получить высшее юридическое образование. Однако в связи с началом Первой мировой войны и стремительно развивающимися революционными событиями решить его удалось только после Февральской буржуазно-демократической революции. Цель: исследование реакции научного сообщества и юристов-практиков России на изменения законодательства в этом вопросе, по их мнению, ущемляющих права женщин и являющихся «уроками законности», анализ специфики решения проблемы женской адвокатуры на рубеже XIX-ХХ вв. Методы: исторический, описания, диалектической логики, формально-юридический, толкования правовых норм, системно-функциональный. Результаты: исследование позволило сформулировать вывод о том, что все усилия научной общественности и юристов-практиков не пропали даром: в результате тех событий, которые были связаны с началом Февральской буржуазно-демократической революции в России, ст. 4061 Учреждения судебных установлений, ущемлявшая право женщин вести в судах чужие дела, была наконец отменена.
Судебное представительство, уголовный процесс, гражданский процесс, присяжные поверенные, адвокатура, учреждение судебных установлений, судебная реформа
Короткий адрес: https://sciup.org/142235767
IDR: 142235767 | УДК: 34 | DOI: 10.33184/pravgos-2022.2.7
Текст научной статьи Законодательство и общественная мысль Российской империи на рубеже XIX-ХХ веков о праве женского судебного представительства
са о праве женского судебного представи‐ тельства предполагало достижение опреде‐ ленности в том, может ли женщина‐юрист уча‐ ствовать в судебных процессах в качестве за‐ щитника и поверенного, не имея статуса про‐ фессионального адвоката. В‐третьих, вопрос имел отношение к возможности женщины‐ адвоката иметь право выступать поверенным и по гражданским, и по уголовным делам.
Изложение материала. Говоря о первой проблеме, необходимо учесть следующие особенности, характерные для того време‐ ни. Во‐первых, ст. 185 ч. II т. Х Свода законов Российской Империи было установлено, что присяжными поверенными могут быть все лица, кому это не запрещалось. Запрет быть поверенными, в соответствии со ст. 195 дан‐ ного Свода, действовал в отношении чинов‐ ников, служивших в Сибири, их жен и членов их семей, а также монахов1.
Во‐вторых, судебные уставы и правила о частных поверенных, действовавшие с 25 мая 1874 г. и вводившие в судебную систему Рос‐ сийской Империи институт частных поверен‐ ных, не содержали ограничений для женщин2. В соответствии с ними суды предоставляли право заниматься судебным представитель‐ ством как мужчинам, так и женщинам. В ка‐ честве примера можно привести работу Е.А. Флейшиц, в которой говорится о том, что на судебных процессах в Томске принимала участие госпожа Армаулова, в Иркутском су‐ де выступала госпожа Кичева, а в Нижнем Новгороде успешно практиковала госпожа Козьмина [1, с. 146].
При всем этом необходимо особо отме‐ тить, что Сенат не во всех случаях запрещал женщинам быть поверенными, а только в тех, которые особо оговаривались соответ‐ ствующим законом.
В качестве примера можно привести дело Коссаржецкой. Указ московской судебной па‐ латы от 16 января 1876 г. по данному делу стал причиной принятия Сенатом специального ре‐ шения, которое имело прямое отношение к праву женщин быть поверенными. В нем гово‐ рилось: «определяя права женщин, надо сто‐ ять на точном смысле действующих законов, что ограничения в правах никогда не предпо‐ лагаются и поэтому Высочайшее повеление от 14 января 1876 г. не воспрещает женщинам быть поверенными» [1, с. 144]. Правда, к вели‐ кому сожалению, потом это решение было отменено.
Связано это было с делом Е.Ф. Козьми‐ ной. Как гласит «Справка по вопросу о жен‐ ской адвокатуре и юридическом образова‐ нии», Е.Ф. Козьмина, окончив только Вятскую гимназию и не имея опыта работы в канце‐ лярии прокурора казанского суда А.Ф. Кони, после обнародования Правил от 25 мая 1874 г. «О частных поверенных» получила разреше‐ ние Нижегородского суда сдать экзамен на присяжного поверенного. В феврале 1875 г. она сдала экзамен, внесла установленную плату и получила свидетельство частного по‐ веренного [3].
У Е.Ф. Козьминой было достаточно кли‐ ентов, она выиграла один из сложных про‐ цессов о наследстве у известного присяжно‐ го поверенного Нижнего Новгорода. Несмо‐ тря на это, прошение о доступе к экзамену на присяжного поверенного в судебной па‐ лате Москвы было отклонено. Отказ был обусловлен мнением ряда судей, сослав‐ шихся на отсутствие прямого разрешения женщинам быть присяжными поверенными.
Имея опыт юридической практики, Е.Ф. Ко‐ зьмина успешно обжаловала ответ москов‐ ской судебной палаты в Сенате. Однако че‐ рез несколько дней после предписания Сена‐ та допустить госпожу Е.Ф. Козьмину к испы‐ танию на должность присяжного поверенно‐ го министр юстиции обратился с докладом к императору Александру II. В итоге вышло Высочайшее повеление, разъяснявшее и до‐ полнявшее установки по данному вопросу, которые действовали с 14 января 1871 г. В соответствии с Указом от 7 января 1876 г. «О неприменении к лицам женского пола Правил 25 мая 1874 г. "О частных поверен‐ ных"» запрет женщинам занимать канцеляр‐ ские и иные должности во всех обществен‐ ных и правительственных учреждениях был распространен и на институт частных пове‐ ренных.
Примечательно, что известный россий‐ ский юрист‐правовед и выдающийся адвокат В.Д. Спасович [2; 3; 4; 5; 6; 7], анализируя сложившуюся ситуацию, выразил свое несо‐ гласие с действующими по данному вопросу установками. «Я нахожу применение указа 1871 г. к женщинам частным поверенным, – писал В.Д. Спасович, – не соответствующим делу, ввиду того, что деятельность ходатая по делам не имеет никакого отношения к правительственным и общественным долж‐ ностям» [1, с. 147].
По мнению профессора И.Я. Фойницкого, «не будучи ни частным ремеслом, ни прави‐ тельственной должностью, адвокатская дея‐ тельность есть свободная профессия, кото‐ рая отправляется в видах публичного инте‐ реса для обеспечения населения и государ‐ ства в судебном представительстве… Адво‐ катура должна быть признана особой обще‐ ственной единицей, стоящей при судебных местах, но не в составе их» [8, с. 496].
Тем не менее, несмотря на эти возраже‐ ния, данная норма была в дальнейшем под‐ тверждена ст. 4061 Учреждения судебных установлений. На этом основании женщины лишились возможности получить звание ча‐ стного поверенного по судебным делам [9, с. 181]. Но, как указывал профессор П.И. Лю‐ блинский, крупнейший специалист по уго‐ ловному судоустройству, ст. 389 и 4061 этого нормативного акта имели отношение лишь к рассмотрению гражданских дел.
Рассмотрение уголовных дел регламен‐ тировалось ст. 565 Устава уголовного судо‐ производства, в соответствии с которой под‐ судимый имел право избрать защитника как из состава присяжных и частных поверен‐ ных, так и из числа иных лиц, «коим закон не воспрещает ходатайства по чужим делам» [10, с. 1530].
Специфика создавшейся ситуации заклю‐ чалась в следующем. Действительно, в ст. 246 Устава гражданского судопроизводства были указаны лица, которые не имели права такого ходатайства, однако женщины в их числе упомянуты не были. В соответствии с этим, по мнению профессора П.И. Люблин‐ ского, «по уголовным делам в качестве за‐ щитника по избранию подсудимых для жен‐ щин ограничений не создано» [10, с. 1531].
П.И. Люблинский настаивал на том, что защита в уголовном процессе обуславлива‐ лась доверием подзащитного к защитнику и не требовала в большинстве случаев юриди‐ ческих знаний, что подтверждалось практи‐ кой. Так, 27 апреля 1865 г. решением II отде‐ ления Уголовного кассационного департа‐ мента Сенат допустил к отправлению обя‐ занностей уголовного защитника женщину – жену подсудимого [1, с. 145].
Большой резонанс в обществе вызвал ин‐ цидент с запретом Е.А. Флейшиц выступать в суде, повлекший издание в 1909 г. Сенатом определения № 858, согласно которому лица женского пола могли допускаться к защите в уголовном процессе только в том случае, ес‐ ли они состояли с подсудимым в близких се‐ мейных отношениях. Здесь уместно отме‐ тить, что именно Е.А. Флейшиц была первой женщиной‐адвокатом в России [11; 12]
В силу того, что сами определения не публиковались, а в циркулярном указе мини‐ стра юстиции приводилась лишь резолюция, научному сообществу долго оставались не‐ известны мотивы этого определения. Только в частном сборнике, изданном в 1913 г. Н.М. Рейнке и А.С. Щетининым с разрешения министра юстиции, это определение было опубликовано с мотивами, которые показа‐ лись многим ученым и практикам «неубеди‐ тельными и порочными по формальному ос‐ нованию» [10, с. 1533]. По этому поводу про‐ фессор П.И. Люблинский писал, что «реше‐ ние суда по вопросу о процессуальном праве стороны и вмешательство власти надзора в эту область, подлежащую лишь кассацион‐ ной проверке, надлежит признать чрезмер‐ ным, не соответствующим закону расшире‐ нием прав надзора» [10, с. 1534].
Против опасности чрезмерного расши‐ рения прав надзора выступал и И.Я. Фойниц‐ кий, профессор Санкт‐Петербургского уни‐ верситета, автор учебника по уголовному судопроизводству. Он называл все происхо‐ дящее произволом и опровергал ссылками на закон кассационные решения самого Се‐ ната [13, с. 502–503].
Представители науки и юристы‐практики указывали и на другие нарушения. Так, при рассмотрении дела по обвинению княгини Б. в проступках, предусмотренных ст. 131 и 186 Устава о наказаниях, московский мировой судья Зилов в мае 1913 г. допустил Ольгу К. в качестве защитника по доверенности обви‐ няемой. При этом мировой судья Зилов предварительно не установил, что Ольга К. состоит с подсудимой в семейных отноше‐ ниях. В своих объяснениях мировому съезду судья Зилов указал, что определение соеди‐ ненного присутствия от 13 ноября 1909 г. до его сведения не доводилось, он узнал о нем неофициально из сборника, изданного в 1913 г. Н.М. Рейнке и А.С. Щетининым, кото‐ рым не считал себя вправе руководствовать‐ ся. Притом он был убежден, что данное оп‐ ределение относится только к окружным судам, но не мировым судьям.
Мировой съезд не нашел в действиях су‐ дьи Зилова нарушений, но министр юстиции вынес это дело на рассмотрение Соединен‐ ного присутствия, которое возбудило в от‐ ношении Зилова дисциплинарное производ‐ ство, отменило определение московского мирового съезда, сделав его составу заме‐ чание1. Этот факт возмутил научную общест‐ венность. П.И. Люблинский назвал его «уро‐ ком законности чрезвычайно поучительным» [10, c. 1536].
Не соглашаясь с ограничениями женщин в праве иметь статус присяжных поверенных или их помощников, ученые и юристы‐прак‐ тики Российской Империи настаивали на том, что в российском законодательстве женщина пользуется полной гражданской правоспособностью и для признания за ней права участвовать в судебном процессе не нужно специального указания. Одновремен‐ но с этим они указывали на то, что запрет поступать на государственную службу в су‐ дебное ведомство лишает женщину и права стать адвокатом [1; 10; 14].
Данная ситуация привела к тому, что в 1910 г. сто депутатов Государственной Думы выступили с законодательным предложени‐ ем о разрешении женщинам заниматься ад‐ вокатской деятельностью. Однако, как и следовало ожидать, в 1913 г. это предложе‐ ние было отклонено, что снова вызвало не‐ довольство общественности, считавшей, что такие решения идут вразрез с доктриналь‐ ным толкованием законов. Ученые и практи‐ ки продолжали выражать протест, указывая, что подобные решения не приносят пользу ни государству, ни обществу.
Недовольство вызывал и такой факт. Ста‐ тья 4061 Учреждения судебных установлений определяла, кто может быть поверенным по гражданским делам. Однако к 20 ноября 1914 г. Государственной канцелярией было выпущено юбилейное издание ч. 1 т. XVI Сво‐ да законов Российской Империи, в котором в ст. 4061 слово «гражданским» было опуще‐ но. Получилось, что установки данной ре‐ дакции стали распространяться и на уголов‐ ный процесс.
По этому поводу П.И. Люблинский писал, что «искажение ст. 4061 относится к вольно‐ му творчеству кодификаторов и лишено, в сущности, обязательного значения» и выра‐ жал надежду на то, что «в новой редакции ст. 4061 мы имеем дело только с кодификаци‐ онной погрешностью, а не с новым уроком законности, который преподносится по тому же злосчастному вопросу о правах женщин быть судебными представителями» [10, с. 1547].
Данная ситуация не могла долго оставать‐ ся без внимания и вызвала соответствующую реакцию российской общественности. Исто‐ рии известно несколько гражданских инициа‐ тив в поддержку права женщин заниматься юридической практикой. Так, в Санкт‐Петер‐ бурге столичное общество женщин‐юристов предприняло попытку передать IV Государст‐ венной Думе ходатайство о повторном вне‐ сении законопроекта, предоставляющего женщинам право представительствовать в суде. К большому сожалению, в силу того, что государство в то время было серьезно озабо‐ чено военными проблемами, столичное об‐ щество женщин‐юристов не смогло осущест‐ вить свое намерение.
Необходимо подчеркнуть, что известный российский государственный деятель А.Ф. Ко‐ ни, который всегда служил, как это подчер‐ кивают исследователи его деятельности, «не лицам и не себе, а делу» [15; 16; 17], активно выступал в защиту законопроекта о разре‐ шении женщинам заниматься адвокатской деятельностью. Известна его полемика по этому вопросу с министром юстиции, в ко‐ торой А.Ф. Кони добивался для женщин рав‐ ных прав с мужчинами, в том числе и по это‐ му вопросу. Он с возмущением указывал на противоречия между законом и обоснова‐ нием запретов для женщин на участие в ад‐ вокатской деятельности [18; 19]. Таким обра‐ зом, в российском обществе вопрос о праве женщин на равноправие в судебном процес‐ се поднялся на новый уровень и требовал незамедлительного решения.
В апреле 1916 г. было созвано совещание, на котором данная проблема должна была быть рассмотрена. На заседаниях, которые прошли с 14 по 16 апреля 1916 г., приняло уча‐ стие большое число юристов – представите‐ лей адвокатских советов и иных сословных организаций присяжной адвокатуры. После бурного обсуждения вопроса об обеспечении женщин равноправием в судебном процессе участники совещания единогласно проголосо‐ вали за то, что обязательно нужно допускать женщин в адвокатуру в целях оказания юри‐ дической помощи населению. При этом особо подчеркивалось, что эти изменения являются требованием времени, необходимы и должны быть проведены незамедлительно.
Однако Первая мировая война и начав‐ шиеся вскоре революционные события опять оттеснили вопрос о женском судебном пред‐ ставительстве на второй план. И только после Февральской буржуазно‐демократической ре‐ волюции, которая перевернула вверх дном многие установки прошлого, справедливость восторжествовала.
Это случилось 1 июня 1917 г. В этот день князь Г.Е. Львов, министр‐председатель Вре‐ менного правительства, и министр юстиции П.Н. Переверзев приняли то самое долго‐ жданное решение, в результате которого и появилось постановление «О допущении жен‐ щин к ведению чужих дел в судебных уста‐ новлениях». Согласно данному постановле‐ нию у российских женщин появилась закон‐ ная возможность приобретать официальный статус присяжного поверенного или присяж‐ ного стряпчего. Они уже на законном основа‐ нии имели возможность получить документ, который предоставлял им право ходатайст‐ вовать по чужим делам в качестве частных поверенных или же под руководством при‐ сяжных поверенных в качестве их помощни‐ ков заниматься судебной практикой1.
Заключение. На основании изложенного можно сформулировать вывод о том, что только благодаря огромным усилиям, прило‐ женным учеными‐юристами и юристами‐ практиками на рубеже XX и XIX столетий, а также благодаря революционной ситуации, которая сложилась в 1917 г., ст. 4061 Учрежде‐ ния судебных установлений была наконец отменена и всякие ущемления права женщин‐ юристов, связанные с их участием в судебном процессе, стали достоянием истории.
Список литературы Законодательство и общественная мысль Российской империи на рубеже XIX-ХХ веков о праве женского судебного представительства
- Флейшиц Е.А. О женской адвокатуре / Е.А. Флейшиц // Право. - 1910. - № 3. - С. 134-151.
- Ананских И.А. Прокуратура и адвокатура в Судебной реформе 1864 года: позиции В.Д. Спасовича / И.А. Ананских, М.А. Тюленева // Мир политики и социологии. - 2015. - № 8. - С. 37-43.
- Ананских И.А. Взгляд на сущность акционерных обществ в исторической ретроспективе (на примере трудов В.Д. Спасовича) / И.А. Ананских, В.С. Сэруа, М.А. Тюленева // Правовое поле современной экономики. - 2015. - № 1. - С. 150-156.
- Малофеев М.М. Влияние В.Д. Спасовича на становление института адвокатуры после Судебной реформы 1864 года / М.М. Малофеев, М.А. Желудков // Юридическая наука: история и современность. - 2021. -№ 7. - С. 176-181.
- Малыгина Т. В. Роль В.Д. Спасовича в развитии российской адвокатуры / Т.В. Малыгина, А.С. Тарасов // Юридическая наука: история и современность. -2018. - № 6. - С. 83-88.
- Охрименко Я.В. Юридическое наследие В.Д. Спасовича / Я.В. Охрименко, О.Г. Бодунова // Юридическая наука: история и современность. - 2019. - № 10. - С. 141-146.
- Романовская В. Б. Вопросы судоустройства в пореформенной России в сочинениях В.Д. Спасовича / B.Б. Романовская, Н.И. Биюшкина, М.А. Тюленева // Юридическая наука: история и современность. -2018. - № 12. - С. 31-34.
- Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. / Фой-ницкий И.Я., орд. проф. С. Петерб. ун-та. - 4-е изд. -Санкт-Петербург : Тип. т-ва «Обществ. Польза», 1912. -Т. 1. - 579 с.
- Решетников Г.Л. К вопросу о «женской адвокатуре» в дореволюционной России / Г.Л. Решетников // Российский юридический журнал. - 2012. - № 1 (82). - C. 179-186.
- Люблинский П.И. Борьба с женской адвокатурой и уроки законности / П.И. Люблинский // Право. -1945. - № 21. - С. 1529-1547.
- Грязнова Д.С Роль Е.А. Флейшиц в появлении женщины на юридической арене / Д.С. Грязнова // Мир политики и социологии. - 2019. - № 8. - С. 85-87.
- Исакович А.С. Первая женщина-адвокат в России Екатерина Абрамовна Флейшиц / А.С. Исакович, B.В. Коряковцев // Юридическая наука: история и современность. - 2018. - № 2. - С. 171-175.
- Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства / И.Я. Фойницкий. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Сенатская типография, 1910. - Т. II. - 560 с.
- Набоков В.Д. Может ли женщина вести защиту перед уголовным судом / В.Д. Набоков // Право. - 1909. - № 46. - С. 2473-2481.
- Иконникова И.С. Справедливость в правосудии -его ремесло. К 170-летию со дня рождения А.Ф. Кони / И.С. Иконникова // Мир политики и социологии. - 2013. -№ 11. - С. 36-45.
- Кулешова Л.В. Анатолий Федорович Кони - рыцарь российского правосудия (обзор материалов Межвузовских научных чтений памяти Анатолия Федоровича Кони) / Л.В. Кулешова, Д.В. Рыбин, Е.В. Трофимов // Юридическая наука: история и современность. -2018. - № 3. - С. 57-67.
- Сальников В.П. «... И всегда служил не лицам, и не себе, а делу» / В.П. Сальников, В.А. Иванов // Кони. А.Ф. Избранные произведения : в 3 т. Т. 1. Воспоминания. - Санкт-Петербург : Лексикон : Фонд «Университет», 2001. - С. 5-7.
- Кони А.Ф. О допущении женщин в адвокатуру / А.Ф. Кони // Кони А.Ф. Собр. соч. : в 8 т. - Москва : Юридическая литература, 1967. - Т. 4. - С. 426-442.
- Сынков В. В. А.Ф. Кони об участии женщин в работе российской адвокатуры / В.В. Сынков // Юридическая наука: история и современность. - 2018. - № 12. - C. 164-167.