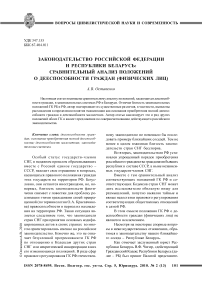Законодательство Российской Федерации и Республики Беларусь: сравнительный анализ положений о дееспособности граждан (физических лиц)
Автор: Остапенко А.В.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Вопросы цивилистической науки и современность
Статья в выпуске: 2 (13), 2010 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена сравнительному анализу положений, касающихся дееспособ- ности граждан, в законодательных системах РФ и Беларуси. Отмечая близость законодательных положений ГК РБ и РФ, автор подчеркивает их существенные различия, в частности, выявлены расхождения в определении понятия эмансипации как основания приобретения полной дееспо- собности граждан и дееспособности малолетних. Автор статьи анализирует эти и ряд других положений обоих ГК и вносит предложения по совершенствованию действующего российского законодательства.
Дееспособность граждан, основание приобретения полной дееспособ- ности, дееспособность малолетних, законода- тельные системы
Короткий адрес: https://sciup.org/14972699
IDR: 14972699 | УДК: 347.155
Текст научной статьи Законодательство Российской Федерации и Республики Беларусь: сравнительный анализ положений о дееспособности граждан (физических лиц)
Особый статус государств-членов СНГ, в недавнем прошлом образовывавших вместе с Россией единое государство – СССР, находит свое отражение в вопросах, касающихся правового положения граждан этих государств на территории РФ. Безусловно, они остаются иностранцами, но, во-первых, близость законодательств фактически снимает с повестки дня проблему реализации этими гражданами своей превращенной (по терминологии О.А. Красавчикова) правоспособности в период их нахождения на территории РФ. Такая ситуация является следствием того, что законодатели стран СНГ при принятии основных кодифицированных актов в своих странах во многом ориентировались именно на российское законодательство. Конечно же, это не означает безусловной прогрессивности ГК РФ по отношению к Кодексам других стран СНГ или некритической инкорпорации в них его изменяющихся положений. В ряде сфер правового регулирования ГК РФ отечествен- ному законодателю не помешало бы последовать примеру ближайших соседей. Тем не менее в целом взаимная близость законодательств стран СНГ бесспорна.
Во-вторых, законодательством РФ установлен упрощенный порядок приобретения российского гражданства гражданами бывших республик в составе СССР, а ныне независимых государств-членов СНГ.
Вместе с тем сравнительный анализ соответствующих положений ГК РФ и соответствующих Кодексов стран СНГ может дать исследователю обильную пищу для размышлений, попутно выявляя тайные и явные недостатки правового регулирования соответствующих общественных отношений в самой РФ.
В этом смысле положения ГК РФ о дееспособности граждан (физических лиц) не являются исключением.
Несмотря на некоторые спорные вопросы в межгосударственных отношениях, обратимся к законодательству нашего ближайшего соседа – Республике Беларусь.
Как отмечает заслуженный юрист Республики Беларусь В.Ф. Чигир, «действующий Гражданский Кодекс Республики Беларусь (далее – РБ) был принят Палатой представите- лей Национального Собрания Республики Беларусь 28 октября 1998 года, одобрен Советом Республики Национального Собрания Республики Беларусь 19 ноября 1998 года, подписан Президентом Республики Беларусь 7 декабря 1998 года и официально опубликован в “Ведомостях Национального Собрания Республики Беларусь” 5 марта 1999 года. Он вступил в силу с 1 июля 1999 года, кроме главы 4 (“Юридические лица”) и раздела VII (“Заключительные положения”), которые вступили в силу со дня их официального опубликования».
Как Гражданский кодекс РФ и Гражданские кодексы других государств-участников СНГ, ГК РБ в основном соответствует Модели Гражданского Кодекса (Рекомендательного законодательного акта Содружества Независимых Государств) 1, части первой, второй и третьей (они приняты на пленарных заседаниях Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ соответственно 29 октября 1994 г., 13 мая 1995 г. и 17 февраля 1996 г.)» [1].
Понимание право- и дееспособности в РФ и РБ практически идентично, следовательно, близки к тождественным и соответствующие законодательные формулировки. Иногда они даже тождественны, как, например, ст. 16 ГК РБ и ст. 17 ГК РФ, содержащие дефиницию гражданской правоспособности, провозглашающие ее равенство для всех граждан, а также определяющие момент ее возникновения и прекращения.
То же можно сказать и о законодательной дефиниции дееспособности граждан по ГК РБ и РФ. Различия их в том, что ст. 20 ГК РБ непосредственно в своем тексте содержит отсылку к ст. 26 Кодекса, посвященной эмансипации. ГК РФ подобной отсылки к ст. 27 не содержит, регламентируя лишь последствия заключения брака до достижения восемнадцатилетнего возраста. Вместе с тем такая отсылка представляется уместной, поскольку эмансипация является основанием изменения состояния дееспособности лица, и значит, таковое ее значение, очевидно, должно быть отражено и в статье, непосредственно посвященной дееспособности граждан.
Представляет интерес положение ч. 3 ст. 20 ГК РБ: «Все граждане имеют равную дееспособность, если иное не установлено за- конодательством». В ГК РФ подобная норма отсутствует, хотя, безусловно, презюмируется. В самом деле, если говорить о ГК РБ, то он, как и ГК РФ, провозглашает недопустимость лишения или ограничения дееспособности граждан иначе, как в соответствии с законодательством. Следовательно, речь идет о равенстве «изначального» объема дееспособности граждан, в том числе и на различных этапах взросления гражданина. Безусловно, белорусский законодатель посредством закрепления соответствующего законоположения предоставляет гражданам дополнительную гарантию соблюдения и уважения их прав, что, в принципе, мог бы сделать и российский законодатель, однако, на наш взгляд, внесение в ГК РФ подобного изменения, хотя и является желательным, но все же носит характер насущной необходимости. Мы полагаем, что и в отсутствие данной нормы ГК гражданам РФ гарантировано взаимное равенство объема их дееспособности в силу основных принципов и начал гражданского законодательства, одним из которых является равенство прав участников гражданского оборота. Это относится не только к обязательственным правам, но и к гражданским правам вообще, а значит, и к способности иметь и осуществлять эти права и, соответственно, нести гражданские обязанности.
Так же, как и в РФ, полная дееспособность граждан по законодательству Республики Беларусь по общему правилу наступает по достижении совершеннолетия, то есть возраста 18 лет. Регламентируется также дееспособность малолетних в возрасте до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
При этом обращает на себя внимание отсутствие в ГК РБ указания на шестилетний (как в ГК РФ) или какой-либо иной возраст, по достижении которого они получают возможность самостоятельно совершать мелкие бытовые и некоторые иные сделки в соответствии со ст. 27 ГК РБ. Это безусловное упущение белорусского законодателя. Как совершенно справедливо отмечает В.Ф. Чигир, «по точному смыслу статьи 27 ГК малолетние могут совершать указанные в этой статье сделки в любом возрасте, то есть с момента их рождения, что совершенно не соответствует физическим возможностям ребенка» [1].
Содержание дееспособности малолетних по ГК РБ идентично содержанию их дееспособности по ГК РФ. В отношении имущественной ответственности за вред, причиненный малолетним, в ГК РБ отсутствует указание на возможность освобождения законных представителей малолетнего от ответственности за вред, причиненный их подопечным, если обязательство было нарушено, а вред, соответственно, возник не по их вине. Однако вместо данного правила в комментируемой статье ГК РБ есть отсылка к главе 58 Кодекса, в которой содержится ст. 942, как раз и устанавливающая такое правило.
Содержание их дееспособности по белорусскому законодательству в целом аналогично тому, что предусмотрено и ГК РФ. Некоторые сомнения вызывает положение ГК РБ о субсидиарной ответственности попечителей несовершеннолетнего – ее несет лицо (а не лица), давшее согласие на совершение сделки. Следовательно, если речь идет, например, о родителях несовершеннолетнего, то получается, что согласие на совершение сделки может быть дано одним из родителей вопреки мнению другого. Конечно, если речь не идет о нарушении порядка распоряжения совместной собственностью супругов, то «оснований для беспокойства», казалось бы, нет, но если между супругами по данному поводу нет согласия, то, как нам представляется, было бы логичнее не давать согласия несовершеннолетнему на совершение сделки, нежели потом оспаривать ее в судебном порядке.
Что же касается статей ГК РБ о признании гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным, то их содержание аналогично содержанию соответствующих статей ГК РФ. ГК РБ также стоит на страже интересов данных категорий лиц, ограничивая жесткими рамками права опекуна (попечителя) по распоряжению имуществом подопечного.
К сожалению, рамки настоящей статьи не позволяют нам продолжить сравнительный анализ положений о дееспособности граждан ГК РФ и Гражданских кодексов других стран Содружества Независимых Государств, тогда как он мог бы оказаться весьма полезным. Например, мы полагаем весьма уместным включение в ГК РФ правила, аналогичного тому, которое содержится в ч. 4 ст. 30 ГК Республики Таджикистан («Признание граждани- на недееспособным»). «Если суд откажет в удовлетворении заявления о признании лица недееспособным и будет установлено, что требование было заявлено недобросовестно, лицо, которому такими действиями был причинен моральный вред, вправе требовать от заявителя его возмещения». Не лишней могла бы оказаться и конкретизация в ГК РФ понятия «мелкой бытовой сделки», подобно тому, как это сделано в ст. 29 того же ГК РТ, а также ряда других положений, содержащихся в статьях ГК других государств-участников СНГ.
Таким образом, очевидно, что, хотя гражданское законодательство стран СНГ в сфере дееспособности граждан (физических лиц) весьма сходно с российским, имеются и отличия, некоторые из которых носят существенный характер, и их анализ может и должен привести к изменению формулировок ряда статей ГК РФ. То же относится, конечно, и к законодательству стран дальнего зарубежья, причем, конечно же, далеко не только в сфере совершенствования законодательства РФ о дееспособности граждан (физических лиц).
Безусловно, в чем-то правовое регулирование общественных отношений по нормам иностранного права, о какой бы сфере правового регулирования ни шла речь, сходно с тем, которое имеет место в РФ, а в чем-то существенно от него отличается. Однако смысл сравнительно-правового анализа различных законодательств состоит именно в том, чтобы в результате их изучения и непредвзятого детального анализа получить возможность усовершенствовать каждое из них. Нам хочется надеяться, что посильную роль в решении этой задачи сыграет и данная статья.