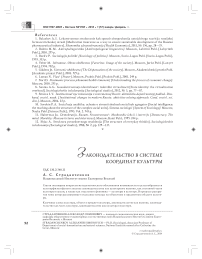Законодательство в системе координат культуры
Автор: Страданченков Александр Симонович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурная политика и культурная среда
Статья в выпуске: 1 (57), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам методологического обоснования возможности и целесообразности культурфилософского анализа законодательства как культурного явления, как составной части культуры в целом, а также как отдельного феномена - культуры в культуре. В процессе раскрытия темы автор рассматривает отдельные взгляды на объектную и предметную области культуры.
Культура, объект и предмет культуры, законодательство как явление, законодательство как часть культуры, законодательство как культура в культуре
Короткий адрес: https://sciup.org/14489675
IDR: 14489675 | УДК: 130.2:340.11
Текст научной статьи Законодательство в системе координат культуры
Фактически любое научное исследование не может обойтись без философского анализа изучаемого явления, предмета, без так называемого онтологического подхода к нему, в качестве одной из задач которого выступает необходимость осмысления изучаемого объекта с точки зрения определения его места среди других научных понятий, феноменов, а также выявления как различий, так и внутренних связей, единства между ними, сути самого явления.
Потребность в анализе философских аспектов такого рода возникает и при изучении отдельных элементов, явлений культуры в рамках теории культуры (культур-философии). Поэтому одним из важных моментов изучения законодательства как социокультурного феномена представляется вопрос, связанный с определением места этого явления в системе координат культуры.
В рамках вышеуказанного целью настоящей статьи для автора является получение ответов на вопросы: возможно ли рассматривать законодательство с точки зрения культурфилософии как культурное явление? Как оно соотносится с понятиями «законодательство как часть культуры», «законодательство как культура»? Является ли культура и законодательство системными образованиями?
Обозначенная проблема сама по себе да- леко не проста, так как в накопленном, казалось бы, немалом опыте знаний, представлений о культуре пока ещё нет единого понимания как самой культуры, так и её объекта и предмета. Как справедливо отмечает профессор В. П. Большаков: «Сосуществует множество разных определений и пониманий культуры, что свидетельствует как о сложности самого феномена, так и о недостаточной развитости теоретических представлений о нем» [1, с. 14]. Показательными являются и результаты состоявшегося в 1983 году в Торонто XVII Всемирного философского конгресса, специально посвящённого проблеме «Философия и культура». Представленные на нем современными философами различные спектры и подходы к культуре показали, что в мировой культурологической мысли нет ни общего взгляда на её изучение, ни единого понимания культуры как таковой. Прошедшие 30 лет после указанного форума накопили определённые результаты в решении указанной задачи, в том числе усилиями таких отечественных теоретиков культуры, как А.А. Белик, С. Н. Иконникова, Л. Г. Ионин, М. С. Каган, В. М. Межуев, А. А. Пелипенко, М. Я. Сараф, Ф. Х. Тенбрук, М. Б. Туровский, А. Я. Флиер, И. Г. Яковенко и др. Вместе с тем, «броуновское движение» исследовательской мысли, господствующее в этой сфере научных знаний, ещё далеко до упорядочивания в рам- ках единого методологического подхода.
Выбирая наиболее полное представление о культуре как о достаточно целостном, системном образовании, с которым можно было бы сопоставить по ряду аспектов законодательство как феномен и часть культуры, стоит заметить, что к настоящему времени, по разным источникам, существуют от 300 до 500 научных определений культуры.
Для настоящей статьи в качестве рабочего понятия под культурой предлагается понимать совокупность элементов окружающего нас материального мира (включая самого человека как социально-природное существо), а также совокупность элементов духовного и социального мира человека, в той или иной степени созданных или преобразованных под воздействием человека и/или общества.
Как известно, объектом любой науки является определённая реальность, представляющая собой некий фрагмент объективно существующего мира в формах материального (предметного) выражения или художественных образов, знаков, совокупности идей, действий и так далее, на которую направлен исследовательский интерес.
По доминирующему до относительно недавнего времени в отечественной методологии науки представлению ряда учёных объект любой науки существует как часть окружающего нас мира и независим от нашего сознания, а соответственно — в нем не содержится никакого предмета исследования. Предмет же — самостоятельный продукт человеческого мозга [13].
Такая раздвоенность (некий разрыв между явлением и его сутью) наблюдалась и ранее у представителей различных направлений истории философии и логики. Не случайно позицию Канта, разделявшего вышеуказанный подход, Гегель подверг резкой критике, назвав отчаяние, приведшее к различению между тем, что представляют продукты нашего мышления (мысли, понятия), и тем, что вещи представляют сами по себе, болезнью века [4, с. 228]. По сути, Гегель, хотя и на идеалистической основе, отстаивал один из важнейших принципов научного познания — принцип тождества бытия и мышления, мысли и предмета осмысления. Принцип, который впоследствии получил своё подтверждение и развитие на материалистической основе, в частности в философии Ф. Энгельса [11, с. 10].
Поэтому, методологической сутью современного понимания предмета любой науки является то, что именно в нем — в предмете исследования в снятом виде раскрываются существенные, системные качества объекта изучения как исходной предпосылки.
Таким образом, осмысление предмета исследования невозможно без изучения самого объекта, представляемого, как правило, в реально существующем явлении, феномене.
Принято считать, что для наук, входящих в структуру обществознания, объектом является общество. Для естественных же наук таковым объектом является природа.
Но культура как специфический продукт человеческой деятельности проявляется не только в рамках общественных отношений или не столько непосредственно в них, но зачастую прямо или опосредовано на природных объектах.
Не случайно, характеризуя объектную область теории культуры, известный специалист в области философии культуры и социальной философии — профессор В. М. Межуев отмечал, что для философа все в мире, даже природа, исполнено человеческого смысла и содержания, существует, следовательно, как культура, а соответственно — как объект познания [7, с. 16]. В качестве примера отметим, что даже такие природные явления, как атмосфера, гидросфера и т.д., все больше и больше подвергаются влиянию со стороны человека и видоизменяются в связи с этим. Так, атмосфера, а конкретней — воздух, уже достаточно ощутимо претерпевает изменения в результате жизнедеятельности людей, а ветер уже вполне серьёзно воспринимается как собственность, отношения к которой, а значит, саму его суть собираются регулировать — и регулируют — в некоторых западноевропейских странах не просто технологически, но и законодательно, то есть — включая это природное явление в общественный оборот как товар. Не продукт ли это культурной деятельности людей?
В результате обозначенного научного развития в качестве объекта философии культуры в современное время обычно понимают культуру во всех её проявлениях, «в её реальной целостности и полноте конкретных форм её существования, в её строении, функционировании и развитии» [6, с. 12].
Выделенная же из неё исследователем для изучения конкретная область, представляющая собой определённые аспекты, черты, особенности и свойства объекта, и является предметом исследования. Таким предметом для автора является законодательство как социокультурное явление, в отличие от ноумена, обычно понимаемого как «суть права» и преимущественно изучаемого представителями таких историко-теоретико-правовых наук, как философия права, теория государства и права, история правовых и политических учений, исследующих природу, суть понятия права, его толкование, выстраивающие учения происхождения, легитимности права и тому подобное.
Законодательство, являющееся продуктом культурной деятельности людей, возникало, трансформировалось и развивалось в реальной, осязаемой форме явления. И поэтому невозможно объяснить онтологические, гносеологические, диалектические, аксиологические и другие проявления, особенности и закономерности законодательства, не рассматривая этот культурный продукт в качестве социокультурного феномена, включённого в систему социокультурных отношений.
В качестве социокультурного явления законодательство представляется как культурная форма, — материально выраженное, закреплённое в определённом виде, фор- ме правовое установление, имеющее свои признаки (особенности) и составные части. Именно в материально выраженной культурной форме или в культурном объекте, воспроизводящем эту форму в многократных копийных или вариативных, интерпретирующих воплощениях (как тонко характеризует соотношение понятий культурной формы и объекта профессор А.Я. Флиер [13, с. 29]), и выступает законодательство как культурное явление, имеющее свои признаки (особенности) и составные части.
К основным признакам законодательства обычно относят формальную определённость, нормативность, императивный и регулятивный характер, общеобязательность, обеспеченность со стороны государственных и негосударственных институтов, системность, а также достаточно «ровное», хотя и дифференцированное (в зависимости, например, от применения по отношению к конкретной группе или к большим общностям, от степени правонарушения и т.д.) отношение к объектам воздействия. Выделяют также такие признаки, как неоднократность (или многократность) его действия, непер-сонифицированность и т.д.
Установление частей законодательства обычно осуществляется на основе подхода, которым пользуется конкретный исследователь. В зависимости от этого в качестве основных частей законодательства как конкретной культурной формы обычно выделяют такие элементы, как гипотеза, диспозиция, санкция ( юридический подход ); смысл, цель, назначение нормы ( социологический под ход ); ло ги че ская же струк ту ра выражается в трёх логических компонентах: «если», «то», «иначе» [3, с. 224—227]. В классификации законодательства как явления могут быть выделены и другие его части, например, в зависимости от конфессионального основания — мусульманское и традиционное законодательство, при использовании регионального основания — китайское, российское и т.д.
Ценность и смысл изучения законода- тельства как социокультурного явления заключается и в том, что, только наблюдая его в реальной жизни общества и анализируя его проявления, можно понять механизмы реализации, ценностно-смысловое, знаково-коммуникативное предназначение этого феномена, установить и дать достаточно объективную оценку его значимости, роли в культурной жизни конкретного социума. А на основании последнего возможно сделать выводы о правовом, политическом, цивилизационном и т.п. — культурном уровне развития общества, а также о содержании его внутренних процессов в целом. Другими словами, это позволяет рассмотреть не только конкретное явление, но и динамику более крупных культурных образований с учётом законодательно-правовых аспектов функционирования их подсистем и систем.
Указанное актуализирует необходимость рассмотрения законодательства не только как отдельного явления, но и как составной части культуры (в рамках системной взаимосвязи последней), так как современное состояние культуры не может ограничиваться только развитием, а соответственно — и изучением преимущественно профессионального способа деятельности или отдельных объектов культуры в отрыве от целостной системы культуры. В данном случае трудно не согласиться с точно обоснованным доводом профессора М. Я. Сарафа относительно того, что кризисный характер и парадоксальность развития современной культуры выражаются в том, что она не может развиваться далее в фрагментарности и утилитаризме [9, с. 52].
О культуре как системе и системном явлении написано достаточно много работ, в том числе отечественными авторами.
Лесли Уайт представлял систему культуры как целостное образование, объединяющее в себе всё и вся. Система эта состоит из технологической, социальной и идеологической подсистем [5, с. 41—42], что в целом соответствует методологическому основанию общей теории систем, предложенной в своё время австрийским биологом и основателем этой теории — Л. Берталанфи.
Одной из наиболее известных и популярных у российских учёных является теория М. С. Кагана, обосновывающего необходимость системно-философского рассмотрения культуры, в котором она предстаёт не как сумма многообразных форм и продуктов деятельности, способов деятельности и институтов, а как системно-целостное единство [6, с. 24]. В его работе прослеживается необходимость приведения методологических принципов изучения природных систем в соответствие с наиболее сложным уровнем антропо-социо-культурных систем, к которым относится и культура [6, с. 32]. Учёный рассматривает две структурные линии формирования культуры как системы. Первая основана на проекции человеческой деятельности как целенаправленной активности субъекта, а коль субъект деятельности может быть индивидуальным, групповым и родовым (человечество в целом), то и сама культура обретает три масштаба модуса: культура человечества , культура социальной группы и культура личности , что соответствует философским различениям онтологических уровней «общее — особенное — единичное» [6, с. 46—47, 104—105). Второе основание представляет культуру как систему, сформированную из субкультур-подсистем, путём сопряжения этнической, национальной, демогра-фи че ской, об ра зо ва тель ной, со цио ло ги ческой, про фес сио наль ной, кон фес сио наль ной плоскостей дифференциации культурогенных субъектов [6, с. 48].
А. А. Пелипенко и И. Г. Яковенко представили свой формально-логический подход к видению культуры как системы, согласно которому авторов интересуют истоки культурно-генетических процессов, системные основания культуры в её изоморфной связи с ментальностью (проблемы бессознательного, семиозиса, партисипации и ряд других проблем). Бесконечные же обсуждения позднейших результатов автономизовав-шихся культурных форм, таких как религия, искусство, экономика, массовая культура, политика, обыденное сознание и прочее, представляются им достаточно бесплодными и схоластическими, так как приводят к нескончаемым, тупиковым терминологическим спорам и вопросам [8, с. 154—155].
Существуют мнения, выражающие невозможность рассмотрения культуры в целом как системы, так как целостным феноменом она не является, что подтверждается хотя бы отсутствием её определения в научной и научно-популярной литературе, наделяющего культуру внутренней самостоятельностью и относительной автономностью [см.: 10, с. 57—58; 2, с. 109].
Не имея целью оспаривать ту или иную точку зрения, лишь подчеркнём, что бесспорная внутренняя взаимосвязь содержательных элементов культуры, основанных на одном источнике — человеческой деятельности, свидетельствует о наличии исходной точки, некоего целостного единства структурно-функциональных связей, что и позволяет использовать опыт системных исследований, накопленный в смежных науках, к культуре. Бесспорно, что в этой мегасистеме немаловажное значение отводится и законодательству, имплицитно встроенному в системную связь культурных элементов и процессов.
Вместе с тем, отсутствие хотя бы «технологического», но единого представления о целостной культуре, трудности определения её универсальных системных характеристик и в то же время фиксирование и ве- рификация параллельно, достаточно независимо существующих в пространстве и во времени культурных форм и универсалий послужили причиной фактического переноса в XX веке акцента доминирования исследований культурфилософии в плоскость постижение многообразия культур, их различных форм и проявлений [7, с. 194—195]. В результате этого «постклассическая философия исходит из зафиксированного наукой факта множественности культур, не сводимой ни к какому их субстанциальному единству» [7, с. 165].
Вышедшая на первый план исследований дифференциация культуры как по формам её проявления, так и по видам духовной деятельности, по её отдельным граням и свойствам позволяет рассматривать её относительно целостные социокультурные образования, к которым относится и законодательство, не только как составные части всей культуры и культурной системы, но и как относительно автономные социокультурные образования, как культуру в культуре.
В заключение отметим, что целостную картину о культурном феномене (в данном случае — законодательстве) может дать только совокупность представлений о нем — и как об отдельном культурном явлении, и как о самостоятельной системе (культуре в культуре), и как о неотделимой части общей системы — культуры как мегасисите-мы, что в целом выражается в единстве философской триады (соотношении частного, особенного и общего) и способствует научному познанию истины.
Список литературы Законодательство в системе координат культуры
- Большаков, В. П. Становление теоретической культурологии//Иконникова С. Н., Большаков В. П. и др. Теория культуры. Санкт-Петербург, 2008.
- Большаков В. П. Структурирование культуры//Иконникова С. Н., Большаков В. П. и др. Теория культу ры. Санкт-Пе тер бург, 2008.
- Венгеров А. Б. Теория государства и права. Москва, 2000.
- Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Москва, 1974. Т 1.
- Давидович В. Е., Жданов Ю. А. Сущность культуры. Ростов-на-Дону, 1979.
- Каган М. С. Философия культуры. Санкт-Петербург, 1996.
- Межуев В. М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. Москва, 2006.
- Пелипенко А. А., Яковенко И. Г. Культура как система. Москва, 1998.
- Сараф М. Я. Опыт типологии культуры. Голицыно, 2003.
- Селиванов В. В. Системный метод в исследовании культуры//Иконникова С. Н., Большаков В. П. и др. Теория культуры. Санкт-Петербург, 2008.
- Социология. Общий курс./В. И. Кондауров, А. С. Страданченков и др. Москва, 2006.
- Щедровицкий Г. П. Проблемы методологии системного исследования. Москва, 1978.
- Флиер А. Я. Культурогенез. Москва, 1995.