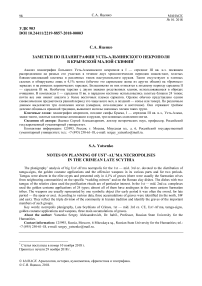Заметки по планиграфии Усть-Альминского некрополя в крымской Малой Скифии
Автор: Яценко С.А.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 10, 2018 года.
Бесплатный доступ
Планиграфия некрополя, поздние скифы крыма, i - середина iii вв. н.э, усть-альма, знаки-тамги, золотые костюмные аппликации и оружие, три основных скопления могил
Короткий адрес: https://sciup.org/14118198
IDR: 14118198 | УДК: 903 | DOI: 10.24411/2219-8857-2018-00003
Текст статьи Заметки по планиграфии Усть-Альминского некрополя в крымской Малой Скифии
МАИАСК № 10. 2018
Заметки по планиграфии Усть-Альминского некрополя в крымской Малой Скифии
Усть-Альминский могильник, возникший в конце II в. до н.э. и в целом существовавший до середины III в. н.э.1, является одним из крупнейших исследованных крымских некрополей античного времени, включающим более 1100 выявленных комплексов (в некоторых из таких могил содержалось до 20 и более умерших родственников)2. Он расположен в устье р. Альма, впадающей в Черное море на западном побережье Крыма, на немного выступающем в море мысу Керменчик, и занимает площадь около 5 га. Это древнее кладбище находится у юго-восточного края обширного (в значительной мере обрушившегося на сегодня в море) городища, бывшего некогда одним из городских центров Scythia Minor (это был то ли Палакий у Страбона, то ли Дандака у Птолемея) и возникшего на месте поселения эпохи бронзы и затем — херсонесского укрепления. В его северовосточной части (у дороги, спускавшейся к стоянке судов) находилась цитадель с наиболее мощным культурным слоем (рис. 1). Вокруг города существовала сеть малых укрепленных поселений с расстояниями 3—5 км между ними. Некрополь возник вдоль одной из двух основных дорог, ведущей к городу с востока, вдоль Альмы (рис. 2). В свою очередь, дорога возникла вдоль цепочки приметных по высоте курганов бронзового века (рис. 1) (Смекалова 2017: 128, 130—131, рис. 3). Наиболее активно могильник «заполнялся» в период расцвета поселения в I — первой половине II вв. н.э.3
В 1964, 1968—1984 гг. раскопками некрополя (его восточной окраины у реки) руководила Т.Н. Высотская (Институт археологии АН УССР). За это время было выявлено 229 погребений: в катакомбах (бывших чаще всего семейными склепами), в ямах (грунтовых с заплечиками, с перекрытием из каменных плит («плитовых») или в обложенных каменными плитами) и в подбоях . Были обнаружены также символические захоронения — кенотафы и вокруг более богатых могил — отдельные конские погребения. Затем, после перерыва, из-за начавшегося массового разграбления могил, здесь в 1988 и 1991—1992 гг. проводила спасательные работы группа из Бахчисарайского историкоархитектурного музея-заповедника под руководством И.И. Лободы, раскопав 83 погребения (Пуздровский 2007: 102). С 1993 по 2014 г. экспедиция Крымского филиала Института Археологии НАН Украины и Бахчисарайского музея под руководством А.Е. Пуздоровского произвела основной объем работ на памятнике. С 2015 г. раскопками руководит А.А. Труфанов из Института археологии Крыма. Наиболее активный период работ на Усть-Альминском некрополе, к сожалению, сопровождался также большой интенсивностью деятельности крымских «черных копателей». Конечно, археологам приятны «сенсационные находки». Поэтому «звездным часом» стало открытие в 1996 г. серии из семи не ограбленных элитарных погребений с серией массивных золотых изделий, расположенных по обеим сторонам тогдашней дороги (рис. 2). Они были опубликованы в Германии (Loboda, Puzdrovskij, Zajcev 2002: 295—316; Puzdrovskij, Zajcev 2004: 229—267) и не вполне доступны коллегам из Восточной Европы, не размещены в Интернете. Лишен массивного золота, но
МАИАСК № 10. 2018
по-своему элитарен и т.н. «склеп жриц», выявленный чуть раньше4 (Зайцев 2000: 294—319). На сегодняшний день основным видом многочисленных публикаций по Усть-Альме стал анализ отдельных ярких находок или единичных более или менее элитных могил (Зайцев 2010: 86—95; Труфанов, Мордвинцева 2016: 196—212; Труфанов, Мордвинцева 2018: 30— 46).
У материалов этого знаменитого некрополя весьма непростая судьба. Прежде всего, немалая часть результатов исследований не опубликована, а если публиковалась, то «суммарно», без детализации. До сих пор мы не имеем удобного в пользовании общего плана Усть-Альминского могильника. Из раскопок Т.Н. Высотской были опубликованы лишь результаты исследований по 1977 г. (158 комплексов) (Высотская 1994: 47—138, рис. 18: план), но и они даны обобщенно, без подробного описания каждой из вскрытых могил. Результаты работ И.И. Лободы остались практически не опубликованными. А.Е. Пуздровский приводит в своей книге по Крымской Скифии материалы раскопок на Усть-Альме по 2004 год включительно, разместив их каждый раз среди материалов прочих важных позднескифских памятников по категориям артефактов, погребальных сооружений и ритуалов (Пуздровский 2007: рис. 69—205). При этом давались чертежи и краткие описания лишь единичных элитных могил. Настоящим прорывом стало недавнее издание монографии покойного А.Е. Пуздровского и А.А. Труфанова, где основательно документированы все погребальные комплексы за период раскопок А.Е. Пуздоровского с 2000 г. по 2014 год (Пуздровский 2016; Пуздровский, Труфанов 2017a; Пуздровский, Труфанов 2017b) (но по каким-то причинам материалы за первые 7 лет работ этой экспедиции в нее не вошли). Здесь мы найдем качественные чертежи, детальные описания, хронологию погребений (здесь она называется, но не обосновывается)5 и схемы раскопов по каждому из полевых сезонов. В целом же и сегодня малодоступными для коллег и лишь частично обработанными остаются многие результаты полевых компаний 1978—1984, 1988 и 1992—1999 гг.
Куда менее благополучной выглядит ситуация с обильным антропологическим материалом , доставшимся исследователям Усть-Альмы. До 2002 г. костные останки умерших не считали нужным специально и системно собирать и хранить, т.к. «сохранность костного материала обычно плохая». В 2014 г. А.Е. Пуздровский передал петербургскому антропологу А.А. Казарницкому скелетные останки из некоторых могил сезонов 2004—2005, 2008, 2010, 2012—2014 гг. (а также материалы из 1—3 могил за каждый из сезонов 2002, 2009 и 2011 гг.). Этот материал комплектовался раскопщиками по нестандартным критериям и включал только черепа (обычно — их фрагменты плохой сохранности), а в примерно половине случаев — только зубы, причем далеко не из всех могил, раскопанных в соответствующие сезоны. Они вместе представляли 118 индивидов из 64 погребений. Подобный состав коллекции позволил определить пол лишь для 35 взрослых умерших (18 женщин и 17 мужчин)6 (Казарницкий 2017: 391, табл. 1.). Необычный принцип отбора материала и его недостаточная репрезентативность, соответственно, приводят для этой коллекции к парадоксальным выводам. Так, мы с удивлением убеждаемся, что все (!) 17 достоверно определимых мужчин умерли в возрасте не ранее 40 лет, но, как правило — позже (!); это же относится к 15 из 18 женщин (!). Для детей (их возраст определен для 24
МАИАСК № 10. 2018
Заметки по планиграфии Усть-Альминского некрополя в крымской Малой Скифии остатков костяков) максимум смертности почему-то приходится на возраст около 5—6 лет (11 экз.), при нулевой в подростковом возрасте (!) и небольшой — в возрасте до 2 лет (4 экз.). В результате А.А. Казарницкий приходит к заключению о большом своеобразии данной коллекции (около 30% мужчин до живших до старости (по современным, а не по древним ее критериям), об отсутствии умерших в подростковом возрасте, о необыкновенно благоприятных условиях жизни в этом небольшом городке в сравнении к крупнейшими центрами Северного Причерноморья, в т.ч. — с соседним Херсонесом Таврическим, с позднескифской столицей Неаполем, не говоря уже о степных кочевых группировках) (Казарницкий 2017: 391, 396). Я же вижу в подобных выводах более всего результат нерепрезентативной, не вполне грамотно сформированной в годы раскопок коллекции для анализа. Достоверное воссоздание антропологического облика умерших из Усть-Альмы — дело будущего, обработки материалов, поступивших уже после 2015 г.
Многим исследователям «варварского» города в Усть-Альме было ясно, что культура его населения не была монолитной в этнокультурном плане, и в римское время (с начала I в. н.э.) она претерпела ряд изменений, вызванных как миграциями соседних (кочевых и оседлых) групп и их последующей интеграцией, так растущим культурным влиянием Империи и ее крымских сателлитов. Однако акценты в понимании ведущей роли одного из двух названных процессов у основных исследователей Усть-Альминского могильника (и в целом — крымской Малой Скифии) в литературе расставлены подчас противоположным образом. Так, А.Е. Пуздровский детально и комплексно прослеживает постепенный рост сарматских и боспорских элементов в разных аспектах культуры туземцев, связывая это как с миграциями и вторжениями кочевников, так и с территориальными аппетитами боспорских царей (Пуздровский 2007: 89—90, 103, 105). В.И. Мордвинцева, напротив, определяющий момент видит в глобальном контексте, во включении Крыма в мир-систему, связанную с противоборством сверхдержав (Рима и Парфии) и их вассалов; при таком подходе «идея трансформации позднескифской культуры под влиянием «сарматизации» выглядит бессмысленной» (Мордвинцева 2017a: 32).
Из сказанного ранее видно, что целостная, единая картина обширного Усть-Алминского некрополя, копавшегося разными исследователями и в разных обстоятельствах, пока в головах исследователей не сложилась, и они оперируют либо отдельными категориями артефактов, либо небольшими участками могильника / отдельными фамильными склепами. Этот очевидный факт, среди прочего, наглядно подтверждается тем, что до сих пор отсутствует удобная в пользовании единая карта этого древнего кладбища. Та, которая была использована мною как основа (рис. 2), имеет ряд неудобств, но другой пока нет.
Между тем, сюжеты, которые я собираюсь затронуть в этой статье, связаны именно с пониманием Усть- Альмы как единого целого и анализа его планиграфии . Такого рода работа для Усть-Альмы пока не предпринималась. Здесь использованы опубликованные материалы по 2014 г. включительно. К сожалению, нет полной уверенности, что информация за все сезоны была одинаково исчерпывающей. Меня будут интересовать лишь частные вопросы: некоторые «варварские» элементы культуры туземцев в два последних периода функционирования кладбища (начало I — середина II вв. и середина II — середина III вв.) — знаки-тамги, нашивные украшения парадного костюма и местные предметы вооружения. Цель такой работы вполне прозрачна. Она может выявить локальные (большесемейные, клановые и прочие) группы в составе могильника, а также лучше понять распространение и изменение со временем ряда традиций.
МАИАСК № 10. 2018
Читатель без труда заметит, что начало обоих названных этапов совпадает со временем распространения в соседней Степи сарматских культур ( среднесарматской и позднесарматской на ее ранней стадии, рубежом между которыми была середина II в. н.э.), тогда как в римском влиянии на херсонесскую округу в это время серьезных изменений не происходило7. Однако ныне очевидно, что и для крымской Scythia Minor, и конкретно для Усть-Альмы эти этапы также соответствуют серьезным местным политическим и культурным переменам. А это, в свою очередь, лишний раз демонстрирует тот факт, что воинственные сарматские группы (как кочевые, так и оседающие), были в то время достаточно значимой частью той самой мир-системы, о которой уже упоминалось, и подчас активно участвовали в римско-парфянской конкуренции… При этом говорить только о насилии со стороны сарматских групп или их «просачивании» будет серьезной ошибкой: ведь как крымские «поздние скифы», так и сарматы были частью общего иранского культурного мира Восточной Европы, с его сходством в базовых языковых, социальных, религиозных и прочих культурных установках. То, что крымские «скифы» в плотном античном окружении вынуждены были достичь уровня ранней государственности, а сарматские группы (за редкими исключениями, вроде предкавказских ранних аланов) сохранили уровень сложных вождеств, никак не мешало их сложному и разноплановому взаимодействию (наемничество, снабжение продуктами земледелия или скотоводства, взаимовыгодная торговля8, брачные связи, различные совместные акции и т.п.).
Знаки-тамги (то есть особые эмблемы, знаки собственности и удостоверительные, символы различения и сопричастности к социально значимым событиям, иногда также — знаки авторства и сакральные символы)9 представлены по данным до 2015 г. 38 типами (рис. 4). За редким исключением (№ 7, 32) эти важные метки идентичности предположительно относятся в Усть-Альме к женской и детской субкультуре. Тамги представлены, главным образом, на двух категориях вещей. Во-первых, это особые миниатюрные зеркальца-подвески (тип которых и традиция размещать на них тамги, как недавно выяснилось, исходно связан с Юго-Всточным Казахстаном), бывшие, вероятно, своеобразным брачным атрибутом для сарматских женщин (прежде всего — вышедших замуж в чужую этнокультурную группу). Часть таких знаков из Усть-Альмы, прежде всего — из раскопов Т.Н. Высотской 1968—1977 гг., уже анализировалась10 (Яценко 2018: 218, 220, 228—229, рис. 6). Как мне уже приходилось отмечать на материалах этого и других «позднескифских» могильников, часть обнаруженных сарматских знаков имеют точные аналоги даже не в европейских Степях, а в Центральной Азии, с частями которой (Кангюй, Бактрия, Семиречье) были связаны сарматские группировки римского времени. Во-вторых, это тарелки или миски (часто краснолаковые), помещаемые в могилы (во многих случаях - в детские). Помимо этих двух типов артефактов, изредка такие знаки гравировались и на других изделиях. Интересно, что все последние (№ 7, 26, 32, 35) встречены только в погребениях из катакомб-склепов I —
МАИАСК № 10. 2018
Заметки по планиграфии Усть-Альминского некрополя в крымской Малой Скифии начала II вв. н.э.: № 7 — конская узда, № 26 — игральный астрагал, № 32 — резная композиция на крышке гроба, № 35 — единственный бронзовый перстень с тамгой). Можно предполагать, что эти четыре случая, в отличие от других, связаны именно с мужской субкультурой11: конская упряжь, крышка гроба с «мужским» сюжетом (Яценко 2014: 57, рис. 3: 1) и единственный перстень с тамгой; однако единичный гадательный астрагал (в отличие от мужских и мальчиковых игровых наборов) в данное время в Степной зоне использовался лицами обоих полов (Яценко 2016: 39—40). В могилах с такими находками обычно (кроме склепа 138) есть и женские зеркала с тамгой.
Поскольку аналоги большинству из представленных типов знаков уже рассматривались ранее, здесь стоит сделать лишь несколько дополнений:
-
1. Сам тип знака № 2 (ему почти идентичен № 1) не является, как можно подумать, лишь спецификой зеркал-подвесок в сармато-скифских женских могилах Крыма или сармато-меотских женских погребений устья Дона и Средней Кубани. Этот чрезвычайно редкий для древних иранских и иранизированных обществ знак известен мне также в известном скоплении тагарских тамг на ограде «царского» кургана Салбык (Marsadolov, Yatsenko 2004: Fig. 5: 3 , No. 18). Это немаловажно, т.к. с поздними тагарцами современные антропологи связывают происхождение носителей позднесарматской археологической культуры (Балабанова 2012: 87—88), с середины II в. н.э. утвердившейся в значительной части европейских степей.
-
2. Знак 19 имеет очень близкую аналогию (отлична только деталь нижнего основания) лишь среди тамг I в. до н.э. — IV в. н.э. на верхней части рухнувших от землетрясений стен храма Байте III на плато Устюрт (Яценко 2017b: 192—195, рис. 2, № 228).
-
3. Некоторые типы свастиковидных тамг на зеркалах (№ 6, 10) имеют близкие аналоги на керамике и кирпичах позднеантичного и раннесредневекового Чача (Ташкентского Оазиса), бывшего частью Кангюйской державы (Смагулов, Яценко 2019: рис. 1(4), 2(2), 4: 27 , 3(II): 57 , 5(1), 34, 37).
-
4. Стоит отметить знак 29 одного из влиятельных кланов «поздних сарматов» Нижнего Дона, один из представителем которого вскоре попал на боспорский трон под именем Иненсимея (234—239 гг.) (Яценко 2001: 56, рис. 26: d ).
-
5. Тамга, близкая аналогия знаку № 33 известна в I в. н.э. на керамическом штемпеле с поселения Анапская Батарейка на Азиатском Боспоре (сооружение В, помещение I) (Емец 2012: № 920).
-
6. Знаки 11—12 (как и близкий им № 13), на первый взгляд, являются лишь сложной орнаментальной композицией. Однако так будет рассуждать тот, кто мало знаком с тамговыми системами Северного Причерноморья. Например, еще в начале ХХ в. идентичный знак был фамильной тамгой у одной из групп населения Центрального Предкавказья, где, как известно, сохранялось наследие тамг и тамгопользования ранней и средневековой Предкавказской Алании (Яхтанигов 1993: 172, № 7). Более важно то, что идентичный № 12 знак найден в серии тамг знатных сюнну на реке Цаган гол 12 (Торбат, Батсух, Баянхуу 2012: 9, Зур. 13, № 27).
-
7. На ряде краснолаковых тарелок встречаются граффити в форме прямого и косого крестов (Пуздровский 1997: рис. 3: 2, 5 , 4: 2 , 5: 2—4), однако, как мне представляется, они не имеют функций тамг, являясь простыми метками «для внутреннего употребления». Нечто подобное мы встречаем, например, на сериях грузил из слоя IV в. н.э. с Ильичевского
МАИАСК № 10. 2018
поселения Азиатского Боспора, где для мечения аналогичных предметов сочетались прямые и косые кресты (Сапрыкин, Масленников 2007: 201, 306. № 171—186).
Рассмотрим теперь дополнительную информацию, которую дают тамги некрополя (рис. 4). Прежде всего, важнейшим фактом является то, что ни в одной из 7—8 не разграбленных элитных могил (рис. 2) никаких тамг, разумеется, нет . Думаю, не будет таких знаков найдено в подобных могилах и в будущем. Вообще тамги обнаружены в ничтожном меньшинстве погребальных комплексов (в 44 из 1071 с 1968 г. по 2014 г., то есть всего лишь 4,1%), по-видимому, маркируя выходцев из чужаков-сарматов (в данном некрополе, судя по всему, почти всегда — женщин)13. Кроме того, ясно, что находки артефактов с тамгами распределены очень неравномерно . В основном они представлены в трех скоплениях , речь о которых ниже . Большинство из тамг отлито на зеркалах-подвесках (30 комплексов), реже они известны в виде граффити на керамике (13 комплексов). При этом в 4 катакомбах-склепах выявлено по 2—3 артефакта различных типов с разными тамгами (склеп 830 — на узде, керамике и зеркале; склеп 424 — на зеркале и керамике; склеп 550/2122 — зеркало и декор крышки гроба; склеп 736 — зеркало и гадательный астрагал). В еще трех комплексах обнаружены по 2—3 разных знака на однотипных изделиях — зеркалах-подвесках (склеп 944 — погребения 1, 3, 5; склеп 54 и подбой 565 — по 2 экз.).
Главное, самое обширное скопление находится в северной части , ближе к древнему городу. В нем тамги происходят из 22 разных комплексов. Здесь господствуют находки позднего времени (середины II — середины III вв.) — 16 из 22 комплексов. Последнее не удивительно: сегодня известно, что некрополь в поздний период разрастался от трассы древней дороги в основном на северо-запад, в сторону города. Среди них 8 ям разных типов (три из них — ранние, среднесарматского времени, во всех случаях — со знаками на керамике); 8 подбоев (среди которых всего 2 ранних, и тоже со знаками на керамике); 6 склепов (три из которых — ранние, два — с зеркалами, один — с керамикой). При этом объекты с мечеными зеркалам и распределены в этом скоплении равномерно , и почти все они (11 из 13) — поздние. Самые поздние находки, относящиеся к первой половине III в. н.э., включают зеркала (подбой 702 и яма 955) и расположены по южному краю скопления. Иначе обстоит дело с комплексами, включающими керамику с тамгами: они найдены только в восточной половине скопления и среди них, напротив, большинство ранних (5 из 9). Один из таких знаков на тарелке (№ 38) изображен под надписью на надгробии, найденном в 1902 г. в некрополе Пантикапея (Соломоник 1959: № 24), и можно думать, принадлежал достаточно влиятельному сарматскому клану.
В двух других скоплениях (южном и восточном) мы сталкиваемся с иной ситуацией: здесь господствуют ранние находки и почти отсутствуют тамги на керамике. В южном скоплении (7 комплексов) преобладают ямные могилы (4), склепов — 2, единственный подбой. Все поздние находки (зеркала) расположены на северном краю (одно из них датируется 1-й половиной III в. — яма 937 с тамгой № 29 «царя Иненсимея»). Оба склепа, напротив, находятся на южном краю (и в каждом, кроме зеркал, есть еще под одному предмету со знаком — на конской узде и гадательном альчике-астрагале). Здесь встречена серия знаков более восточных кочевых регионов, сарматские хозяева которых (судя по наличию в общественно значимых скоплениях-«энциклопедиях» из разных пунктов Степной зоны) были весьма активны в политической и торговой сферах. Речь идет о двух знаках нижнедонского происхождения (№ 7, 29) и одном — из Северного Приазовья (№ 31) (Яценко 2018: 229). Восточное скопление (9 комплексов) содержит примерное поровну катакомб-
МАИАСК № 10. 2018
Заметки по планиграфии Усть-Альминского некрополя в крымской Малой Скифии склепов и ямных могил (по 4) и единственный ранний подбой. Здесь все 6 зеркал относятся к раннему времени, а оба знака на керамике — к позднему.
Кроме скоплений, в восточной и западной частях некрополя есть еще 6 единичных комплексов с тамгами (в пяти случаях последние изображены на зеркалах, причем поздние образцы найдены севернее, ближе к городищу). Что касается завершающей фазы функционирования Усть-Альминского кладбища (1-я половина III в. н.э.), то к этому времени относятся 6 тамг, чаще всего — из ямных погребений, довольно равномерно распределенных в разных его частях: лишь в одном случае это лепная миска (№ 23, яма 364) , в остальных же — зеркала-подвески (№ 3 — подбои 702 и 846) на северо-западном краю; № 15 — яма 955; № 28 — яма 1045; № 29 — яма 937). Интересной особенностью этих позднейших знаков является то, что в основе их формы всегда лежит крест или крестовидная свастика.
Показательно, что больше половины комплексов с сарматскими тамгами (24 из 44) относятся к позднему периоду — времени относительного оскудения местного общества. При этом мною уже отмечалось наибольшая связь типов знаков с сарматскими кланами низовьев Дона соответствующих периодов (№ 3, 7, 27, 29, 32), в том числе весьма влиятельных. С другой стороны, большинство тамг на керамике не имеет аналогий и явно принадлежит (кроме № 31 и 38) локальным кланам, не активным вне своего небольшого региона.
Немалый интерес представляют пары знаков на одной и той же тарелке или миске из детского (яма 584) или предположительно женских погребений. Здесь процарапаны или по две разных, но близких по типу тамги (в северном скоплении: яма 584 — № 33—34; подбой 482/2 - № 19-20), или дважды представлен один и тот же знак (в южном скоплении: яма 816 — № 31)14. В такой ситуации тамги не могли выступать как знаки собственности (дети в иранских обществах не имели право на тамгу, а одна недорогая тарелка не могла принадлежать сразу двум разным кланам), ни имели обереговой функции (на которой делает акцент применительно к посуде С.В. Воронятов) (Воронятов 2009: 81 — 82), т.к. в алано-осетинской и таджикской этнографии для этого на сосуде ставился единственный знак семьи хозяина. Остается предположить, что до того, как такие тарелки (в редких, особых случаях!) помещались в могилу, присутствовавшими на похоронках родственниками (представителями двух родственных или одной и той же семейной и клановой группы), с этой посудой (точнее — с ее неизвестным ныне содержимым) проводился некий обряд, вероятно — очистительного характера. Надо ли говорить читателю, что именно на таких тарелках (в отличие от многих других) никогда не бывает никаких греческих надписей? Тамга, как важный символ (восприятие которого имело отчасти и религиозный аспект) тут не допускала подобной «конкуренции»…
Золотые нашивные бляшки парадного костюма . Их находки относятся к началу I — середине II вв. н.э. и обычно (по опубликованным данным, то есть на 2014 г.) происходят из катакомб-склепов (исключение — ямная могила 745). В более позднее время местная элита выглядела куда более аскетичной, и таковых (и тем паче — более массивных) золотых украшений практически не употребляла (Мордвинцева 2017b: 211). Несмотря на активные
МАИАСК № 10. 2018
ограбления (древние и современные), нашивные бляшки, когда-то украшавшие наплечную одежду и головные уборы женщин и реже — мужчин, известны нам (до 2015 г.) из 21 комплекса, в ряде случаев не тронутых грабителями. Здесь представлено 24 основных типа бляшек (рис. 5). Простота их форм и технологии (кроме № 8 и 10 с эмалью15) допускает их производство в различных центрах. При этом не менее 13 типов из названных (№ 4, 7—8, 11—14, 19—24) были важным элементом местного костюма у такого давно жившего на Кубани сарматского этноса как сираки (Марченко 1996: рис. 11; Гущина, Засецкая 1994: № 50/3, 131, 197, 290/1—2, 311/3, 503/1—2). В костюме сарматской знати степей низовьев Дона и Волги I-II вв. мы встречаем подавляющее большинство тех же форм (№ 1, 5—8, 10—11, 12—14, 16—24).
Распространение могил с бляшечным костюмом связано с тремя основными скоплениями. Самое большое из них находится на юге, образуя кольцо из 7 комплексов. Северо-западное включает 6 могил, восточное — всего 3. При этом пять из семи элитных могил сконцентрированы в северо-западном скоплении. Во всех сохранившихся (в разной степени) наборах очевидно стремление к оригинальности в рамках допустимого обычаем. Вместе с тем, отмечу, что только на юге некрополя использовались бляшки типа 2 (4 комплекса), только на северо-западе — тип 5 (2 комплекса), только на востоке — тип 11 (2 комплекса).
Предметы вооружения . Уцелевшие элитные комплексы небогаты оружием, т.к., вероятно, были в значительной мере женскими. В склепе 612 вооружение обоих мужчин (?)16 очень скромно: у каждого по короткому мечу с кольцевым навершием, у костяка III также набор стрел от колчана.
В материалах некрополя (к 2015 году) выявлено 57 комплексов с оружием (из которых лишь 10, разбросанных по его краям, относятся к позднему периоду (середина II — середина III вв.). Они в основном образуют 6 скоплений разного размера (рис. 6); единичные такие комплексы (7) есть в центре и на юго-востоке. К сожалению, высокая степень разрушений позволяет делать многие выводы лишь с допущением, особенно — говорить о комплектности. Естественно, в реальной жизни мужчина-воин здесь носил комплект различного оружия. В двух погребениях ямного типа (737 и 848) и в склепе 316 (?) мы наблюдаем такой комплект наступательного оружия: клинковое, копье и колчанный набор. Однако в погребальной практике этот комплект обычно не помещали, часто довольствуясь единственным предметом — символом принадлежности к «воинам» - воинского прошлого или статуса. Это чаще всего клинковое оружие, реже — копье, набор стрел (в колчане и без него), изредка — небольшой топор.
Самое крупное из скоплений комплексов с вооружением находится на северо-западном краю (20 могил). Это район ранних захоронений такого типа: поздний комплекс здесь всего один, на самом северном краю (склеп 879). В скоплении преобладают комплексы, где умерший вооружен только клинковым оружием (мечами, реже — кинжалами разных типов) (14), в сочетании со стрелами — 2. Здесь встречено 17 могил с клинковым оружием, 7 — с колчанами или наборами стрел. Два комплекса с копьями (в том числе — с одиночным в склепе 630) расположены на восточном краю; это же относится к двум комплексам только с
МАИАСК № 10. 2018
Заметки по планиграфии Усть-Альминского некрополя в крымской Малой Скифии набором стрел (склепы 557 и 730). Другое, достаточное крупное скопление видим на юго-западе (9 комплексов, все они до середины II в. н.э.). Здесь наступательное оружие найдено в склепах (исключение — яма 903 с мечом). Преобладает сочетание клинка с набором стрел, в трех случаях обнаружен только меч. Еще одно скопление на северо-северо-востоке (8 могил) довольно оригинально по составу. Здесь есть две поздних могилы (в каждой — одиночное копье). Мы видим самую высокую в могильнике концентрацию копий (в 4 могилах, из них в трех — одиночные, две из них — поздние). Три ранних комплекса в центре содержат лишь колчанный набор, один — меч. В скоплении на западном краю (7 могил) преобладают ранние склепы и ямы с единственным мечом. В одним из двух поздних подбоев встречен топорик, в другом — полный местный комплект оружия. В северо-восточном скоплении (всего 4 ранних могилы с оружием) оно представлено мечом (в склепе 92 дополненным копьем). Наконец, в скоплении на восточном краю (4 комплекса) наблюдаем пеструю картину: в двух ранних могилах присутствует меч (в склепе 120 дополненный колчаном), в двух поздних представлены одиночные копье или топор.
Итак, в раннем материале скоплений могил с оружием наблюдаем следующую, всякий раз специфическую картину. В самом крупном СЗ скоплении преобладает одиночный клинок, на восточной границе — могилы только с копьем или со стрелами. В ЮЗ скоплении из склепов обычно сочетание клинка и набора стрел. Для ССВ скопления наблюдаем и единичные копья, и стрелы, и меч. В восточном скоплении - меч или его сочетание с копьем. Топоры в некрополе — редкое оружие, не встреченное в склепах. В немногочисленных поздних могилах встречаем иной состав вооружения. Основное оружие в это время — единичное копье (могилы 133, 383, 493, 1054), реже — единичные топор (могилы 132, 631) или меч (могилы 876 и 1059). Колчанов и луков в это время не клали, набор стрел встречен однажды и лишь в комплекте с копьем и мечом (могила 848).
Надо полагать, что у местных воинов бытовал защитный доспех. Но помещать его в могилу не было принято. Зато в поздний период известны три одиночных могилы, в который найдено по небольшому обрывку кольчуги, вероятно, служившему оберегом. Самая поздняя из них, яма 909 первой половины III в. н.э. женщины около 40 лет. Другие — подбой 1015 ребенка около 4 лет (судя по обильному инвентарю - девочки). Ограбленный недавно подбой 1025 тоже, видимо, по составу сохранившихся вещей, был женским. Помещение обрывка кольчуги в качестве оберега для женщин или (у средневековых аланов) символической замены доспеха у мужчин — отнюдь не исключительный случай в традиции иранского населения Восточной Европы и Северного Кавказа. Например, в женской могиле 25 1962 г. из меото-сарматского некрополя в Кобяково, датируемой около рубежа II—III вв., тоже найден небольшой фрагмент кольчуги (Косяненко 2008: 99, 520—521, рис. 139: 6 ). Позже, в известном аланском некрополе у с. Даргавс в не ограбленных семейных катакомбах № 20 и 27 VIII—IX вв. с тремя-четырьмя умершими на полу камеры клали отдельно маленький фрагмент кольчуги (других следов доспеха там не было) (Дзаттиаты 2014: 22, табл. LVIII: 48 ).
Еще один небольшой сюжет связан с парой современных (а не более древних, как обычно!) наконечников стрел в качестве амулетов. Одна такая пара найдена была у ребенка в 332, другая — у мужчины (?) в могиле 22 склепа 944 (в последнем случае по одной стреле лежали у левой руки и у таза, наряду с железными пряжками, гвоздями и т.п.). Пара стрел была важным элементом женских амулетов у населения Великой Степи еще недавно, в
МАИАСК № 10. 2018
«этнографические» времена17. Это можно сопоставить с серией погребений женщин из среднесарматского некрополя Новый в низовьях Дона, где (вне зависимости от того, была ли могила целой или ограбленной в древности) умершей оставляли по 3 стрелы (наиболее легко достижимое священное число) (Яценко 2018a: 57).
Итак, мы рассмотрели некоторые значимые элементы культуры «поздних скифов» в некрополе Усть-Альмы. Интересно, что при анализе распространения тамг, предметов вооружения и золотых бляшек костюма на карте вполне внятно выделяются три основных зоны концентрации соответствующих находок: северная, близкая к городу (обычно более обильная), юго-западная и восточная, причем в каждой из зон для двух первых категорий артефактов встречены могилы обоих основных хронологических этапов (подчас, как в случае с картографированием вооружения, выделяются и совсем малые зоны концентрации). Что может означать на практике такое тройное деление массивов могил? Думаю, оно может прямо или косвенно отражать популярное в иранском мире троичное деление коллективов разных уровней , точнее — демонстрирует посмертную «локализацию» наиболее значимых членов таких групп. Вспомним, что и типов синхронных могил в Усть-Альме в оба изучаемых периода было тоже три (катакомбы, ямы и подбои), и это также отражает внутреннее деление общины, обитавшей в этой важной крепости Малой Скифии. Что касается местной элиты, то она, конечно, вряд ли включала представителей всех клановых группировок. На практике неграбленые элитные катакомбы-склепы относились к двум соседним скоплениям, разделенным дорогой (ср. рис. 2 и 5).
Список литературы Заметки по планиграфии Усть-Альминского некрополя в крымской Малой Скифии
- Балабанова М.А. 2012. О центральноазиатских связях в антропологии населения позднесарматского времени Восточной Европы. Вестник археологии, антропологии и этнографии 3(18), 82-91.
- Вдовченков Е.В., Яценко С.А. 2018. О характере сарматского «присутствия» в некрополе Кобяково I-III вв. н.э. В: Зуев В.Ю., Хршановский В.А. (отв. ред.). Боспорский феномен. Общее и особенное в историко-культурном пространстве античного мира. Материалы международной научной конференции. Ч. 2. Санкт-Петербург: Издательско-полиграфический центр Санкт-Петербургского Государственного Университета промышленных технологий и дизайна, 268-274.
- Воронятов С.В. 2009. О функции сарматских тамг на сосудах. В: Фурасьев А. (ред.). Гунны, готы и сарматы между Волгой и Дунаем. Санкт-Петербург: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 80-89.
- Высотская Т.Н. 1994. Усть-Альминское городище и некрополь. Киев: Киевская Академия Евробизнеса.
- Гущина И.И., Засецкая И.П. 1994. «Золотое кладбище» римской эпохи в Прикубанье. Санкт-Петербург: Фарн.
- Дзаттиаты Р.Г. 2014. Аланские древности Даргавса. Владикавказ: Ир.
- Емец И.А. 2012. Граффити и дипинти из античных городов Северного Причерноморья (подготовительные материалы к Корпусу). Москва: Спутник +.
- Зайцев Ю.П. 2000. «Склеп жриц» Устъ-Альминского позднескифского некрополя. В: Акимова Л.И., Кифишин А.Г. (ред.). Жертвоприношение. Ритуал в искусстве и культуре от древности до наших дней. Москва: Языки русской культуры, 294-319 (Έρμηνεία 2).
- Зайцев Ю.П. 2010. Футляр для папирусов из Усть-Альминского некрополя в Юго-Западном Крыму. ВДИ 2, 86-95.
- Зубарь В.М. 1998. Северный Понт и Римская империя (конец I в. до н.э. -первая половина VI в.). Киев: Институт археологии НАН Украины.
- Казарницкий А.А. 2017. Антропологические материалы Усть-Альминского могильника. КСИА 247, 390-404.
- Косяненко В.М. 2008. Некрополь Кобякова городища (по материалам раскопок 1956-1962 гг.). Азов: Азовский музей-заповедник.
- Марченко И.И. 1996. Сираки Кубани (по материалам курганных погребений Нижней Кубани). Краснодар: КубГУ.
- Мордвинцева В. 2017. «Крымская Скифия» и «позднескифская культура Крыма». Формирование и развитие понятий. В: Иванчик А., Мордвинцева В. (ред.). Крымская Скифия в системе культурных связей между Востоком и Западом. Симферополь; Москва: ИП Зуева Т.В., 15-33.
- Мордвинцева В. 2017. Культурно-исторические процессы в «варварских» социумах Крыма по материалам погребальных комплексов элиты III вю до н.э. -сер. III в. н.э. В: Иванчик А., Мордвинцева В. (ред.). Крымская Скифия в системе культурных связей между Востоком и Западом. Симферополь; Москва: ИП Зуева Т.В., 183-212.
- Мошкова М.Г., Железчиков Б.Ф., Кригер В.А. Отчет. Археологические работы в Уральской области в 1978 году. Архив Института археологии РАН. Р-1. Альбом № 6929б.
- Пуздровский А.Е. 1997. Граффити на краснолаковой посуде из раскопок Усть-Альминского некрополя в 1993-1995 гг. B: Храпунов И.Н. (ред.). Бахчисарайский историко-археологический сборник. Вып. 1. Симферополь: Таврия, 167-180.
- Пуздровский А.Е. 2007. Крымская Скифия II в. до н.э. -III в. н.э. Погребальные памятники. Симферополь: Бизнес-Информ.
- Пуздровский А.Е. 2011. Погребения сарматских «жриц» из Юго-Западного Крыма. Stratum plus 4, 271-290.
- Пуздровский А.Е., Труфанов А.А. 2016. Полевые исследования Усть-Альминского некрополя в 2008-2014 гг. Симферополь; Москва: ИП Бровко А.А.
- Пуздровский А.Е., Труфанов А.А. 2017. Полевые исследования Усть-Альминского некрополя в 2000-2003 гг. Симферополь; Москва: ИП Бровко А.А.
- Пуздровский А.Е., Труфанов А.А. 2017. Полевые исследования Усть-Альминского некрополя в 2004-2007 гг. Симферополь; Москва: ИП Бровко А.А.
- Сапрыкин С.Ю., Масленников А.А. 2007. Граффити и дипинти хоры античного Боспора. Симферополь; Керчь: АДЕФ-Украина.
- Смекалова Т. 2017. Система расселения, пространственная структура и хозяйственные типы поздних скифов Крыма. В: Иванчик А., Мордвинцева В. (ред.). Крымская Скифия в системе культурных связей между Востоком и Западом. Симферополь; Москва: ИП Зуева Т.В., 124-147.
- Соломоник Э.И. 1959. Сарматские знаки Северного Причерноморья. Киев: АН УССР.
- Төрбат Ц., Батсүх Д., Баярхүү Н. 2012. Хүннүгийн археологийн тамгууд Люаньди овгийн тамга болох нь. Studia archaeological Instituti archaeologici Academiae scientiarum Mongolicae XXXII, 136-161.
- Труфанов А.А. 2009. Хронология могильников Предгорного Крыма I в. до н. э. -III в. н. э. Stratum plus 4, 117-328.
- Труфанов А.А. 2010. Погребения III в. н. э. на юго-западной окраине Усть-Альминского некрополя. Stratum plus 4, 145-194.
- Труфанов А.А. 2012. Новые данные о последнем этапе функционирования позднескифского Усть-Альминского могильника (по материалам раскопок 2009-2011 гг.). Stratum plus 4, 65-96.
- Труфанов А.А., Мордвинцева В.И. 2016. Воинское погребение середины I в. н.э. из Усть-Альминского некрополя (Юго-Западный Крым). ПИФК 2, 196-212.
- Труфанов А.А., Мордвинцева В.И. 2018. Погребение I в. н.э. из Усть-Альминского некрополя (Юго-Западный Крым). ПИФК 3, 30-46.
- Яхтанигов Х. 1993. Северокавказские тамги. Нальчик: Эльбрус.
- Яценко С.А. 2001. Знаки-тамги ираноязычных народов древности и раннего средневековья. Москва: Восточная литература.
- Яценко С.А. 2014. Региональные особенности сюжетов и бытовых реалий в монументальных поминально-погребальных памятниках Малой Скифии I-III вв. н.э. МАИАСК 6, 40-63.
- Яценко С.А. 2016. Некоторые проблемы археологического изучения погребальной обрядности. Новое прошлое 4, 31-48.
- Яценко С.А. 2017. Китай, Фергана, Кангюй и сарматы в торговле рубежа н.э. -середины III в. н.э. В: Вдовченков Е.В. (отв. ред.). Проблемы археологии Восточной Европы и Дальнего Востока. Материалы XII международной археологической конференции студентов и аспирантов (Ростов-на-Дону, 26-29 ноября 2017 г.). Ростов-на-Дону; Таганрог: ЮрФУ, 256-277.
- Яценко С.А. 2017. Тамги на объектах храма Байте III на Устюрте: о датировке и этнокультурной атрибуции. В: Савинов В.Г. (отв. ред.). Ранний железный век Евразии от рубежа эр до середины I тыс. н.э. Динамика освоения культурного пространства. Материалы IV научной конференции «Археологические источники и культурогенез». Санкт-Петербург: Скифия-принт, 192-195.
- Яценко С.А. 2018. Женщины-воительницы ранних кочевников в больших и малых некрополях (к анализу планиграфии и уточнению статуса). Сходознавство 82, 47-84.
- Яценко С.А. 2018. Планиграфия знаков-тамг в некрополях оседлого населения Сарматии. Stratum plus 6, 217-242.
- Яценко С.А, Смагулов Е.А. 2019. Знаки городищ Чача. В: Яценко С.А., Рогожинский А.Е., Смагулов Е.А., Табалдиев К.Ш, Баратов С.Р., Ильясов Дж.Я., Бабаяров Г.Б. Тамги доисламской Центральной Азии. Самарканд: МИЦАИ, 198-229.
- Яценко С.А., Рогожинский А.Е. 2019. Введение. В: Яценко С.А., Рогожинский А.Е., Смагулов Е.А., Табалдиев К.Ш, Баратов С.Р., Ильясов Дж.Я., Бабаяров Г.Б. Тамги доисламской Центральной Азии. Самарканд: МИЦАИ, 8-42.
- Loboda I.I., Puzdrovskij A.E., Zajcev Ju.P. 2002. Prunkbestattungen des 1. Jhs. n. Chr. in der Nekropole Ust′-Alma auf der Krim (Die Ausgrabungen der Jahres 1996). Eurasia Antiqua 8, 295-346.
- Marsadolov L.S., Yatsenko S.A. 2004. Accumulation of Tamga-Signs from Salbyk Valley (Khakassia, South Siberia). Silk Road Art and Archaeology 10, 291-304.
- Puzdrovskij A.A., Zajcev Ju.P. 2004. Prunkbestattungen des 1. Jhs. n. Chr. in der Nekropole Ust′-Alma, Krim (Die Grabungen des Jahres 1999). Eurasia Antiqua 10, 229-267.