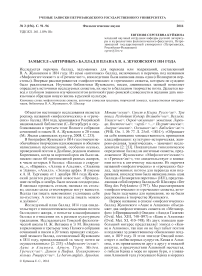Замысел «античных» баллад в планах В. А. Жуковского 1814 года
Автор: Куйкина Евгения Сергеевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (156), 2016 года.
Бесплатный доступ
Исследуется перечень баллад, задуманных для перевода или подражаний, составленный В. А. Жуковским в 1814 году. Из семи «античных» баллад, включенных в перечень под названием «Мифологич» и «Греческ», впоследствии была написана лишь одна («Поликратов перстень»). Впервые рассматриваются «мифологические» и «греческие» сюжеты, которым не суждено было реализоваться. Изучение библиотеки Жуковского, писем, дневниковых записей позволяет определить источники исследуемых сюжетов, их место в балладном творчестве поэта. Делается вывод о глубоком знании и изучении поэтом античной греко-римской словесности и желании дать иноязычным образцам новую жизнь в русской культуре.
Мифологические сюжеты, античная словесная традиция, творческий замысел, художественная интерпретация, библиотека в. а. жуковского, ф. шиллер
Короткий адрес: https://sciup.org/14751055
IDR: 14751055 | УДК: 821Л6П.096189
Текст научной статьи Замысел «античных» баллад в планах В. А. Жуковского 1814 года
Объектом настоящего исследования является роспись названий «мифологических» и «греческих» баллад 1814 года, хранящаяся в Российской национальной библиотеке (С.-Петербург) и опубликованная в третьем томе Полного собрания сочинений и писем В. А. Жуковского в 20 томах (М.: Языки славянских культур, 2008. С. 233).
В биографии Жуковского 1814 год отмечен необычайным творческим вдохновением и обилием написанных произведений, особенно осенью, проведенной поэтом в Долбине, родовом имении Киреевских, когда за короткий срок им было написано около 60 произведений разных жанров, в числе которых 6 баллад: «Баллада о старушке...», «Варвик», «Алина и Альсим», «Эльвина и Эдвин», «Ахилл», «Эолова арфа». В письме к А. И. Тургеневу от 1 декабря 1814 года Жуковский делится радостной новостью: «Прошедшие октябрь и ноябрь были весьма плодородны. Я написал пропасть стихов; написал их столько, сколько силы стихотворные могут вынести. Всегда так писать невозможно: ухлопаешь себя по-пустому. А почти так всегда писать можно и должно»1.
Исследуемый план баллад 1814 года свидетельствует о типологическом осмыслении поэтом балладного жанра, о попытке классификации баллад и отнесении их к разным культурным традициям. Исследователи Томской филологической школы Н. Ж. Ветшева и Э. М. Жилякова в приложении к третьему тому Полного собрания сочинений и писем в 20 томах приводят следующий замысел баллад, составленный Жуковским в 1814 году, принадлежащий «к числу почти не осуществленных» [2: 233]: « Мифологич<еские>. Ацис и Алциона. Арион. Геро. Медея. Греческ<ие>. Дамон и Пифия. Поликратово кольцо. Рыцарск<ие>. Le baron anglais. Ариодан.
Монаш<еские>. Сикст и Клера. Русск<ие>. Три пояса. Разбойник Кудеяр. Волшебн<ые>. Велледа. Ужасн<ые>. Окров<авленная> монахиня. Лоренцо. Восточн<ые>. <нрзб.><...> Негрит<янские>. Америк<анские>. Оссианск<ие>. Библейск<ие> » (РНБ. Оп. 1. № 77. Л. 25об. <1814>). «Обращает на себя внимание множественность принципов классификации: культурно-историческая, жанрово-родовая, тематическая», – замечают исследователи [2: 233]. Показательно типологическое определение баллад на античные сюжеты, предложенное Жуковским: «Мифологич<еские>» и «Греческ<ие>», что свидетельствует о внимании поэта к античному наследию. Из перечня названий «мифологических» и «греческих» баллад, задуманных поэтом для перевода или подражания, впоследствии была написана лишь одна баллада «Поликратов перстень» (1831), представляющая собой перевод баллады Ф. Шиллера «Der Ring des Polykrates» (1797). Мы рассматриваем «мифологические» и «греческие» сюжеты, которые были задуманы для написания, но не были реализованы в творчестве Жуковского.
Первое название в списке «мифологических» баллад Жуковского «Ацис и Алциона» объединяет два мифологических сюжета из «Метаморфоз» («Превращений») Овидия: «Акид и Галатея» (Ovid. Met. XIII, 740–897) и «Кеик и Алкиона» (Ovid. Met. XI, 410–748). Из двух эпизодов наибольший интерес представляет эпизод о «Кеи-ке и Алкионе», так как он не был забыт поэтом и подлежал художественному обновлению позднее, в 1819 году. В этом эпизоде Овидий повествует о любви верных супругов, Кеика и Алкионы, о их привязанности друг к другу и тяжелой разлуке, о предчувствии Алкионой несчастья, о гибели Кеика в море во время бури, о узнавании Алкионой тела утонувшего Кеика в морских волнах и желании разделить его участь. Боги пожалели любящих супругов и превратили Кеика и Алкиону в птиц.
При составлении плана баллад 1814 года Жуковский, безусловно, был знаком с мифологическими сюжетами «Превращений» и осмыслял их в перспективе собственного творчества. Имя Овидия было указано Жуковским в бумагах 1804–1805 годов, воспроизведенных в книге В. И. Резанова «Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского». Так, в 1804 году в перечне авторов, намеченных для перевода, в разделе «Эпическая поэзiя» обозначено: «Отрывки изъ Овидiя»2. В «Росписи во всяком роде лучших книг и сочинений, из которых большей части должно сделать экстракты» 1805 года в разделе «Поэзiя» указано: «Métamorphoses d'Ovide»3. «По-видимому, в руках Жуковского оказался обстоятельный каталог какого-нибудь хорошего тогдашнего книжного магазина; отсюда и наметил наш поэт сочинения, которые его интересовали», – предполагает В. И. Резанов, указывая на обширный список сочинений, распределенных на 22 раздела в «Росписи» 1805 года4. С мифологическими сюжетами из «Превращений» Жуковский был знаком не только по переводам Овидия и различным мифологическим сводам того времени, но и по театральным постановкам. Артисты балета представляли Зефира, Адониса, Венеру, Марса или «перевоплощались и в иных, более современных персонажей» [8: 160]. В 1809 году в театральных рецензиях Жуковский пишет, «что век Овидиевых превращений еще не миновался»5.
В исследуемом плане баллад греческие имена героев Овидия переданы по латинскому произношению: Ἄ κις – Acis – Ацис, Ἀ λκυών – Ἀ λκυόνος – Alcyone – Алциона. Можно предполагать, что Жуковский знакомился с Овидием, имея перед глазами латинский текст или один из двух немецких переводов «Превращений», хранящихся в библиотеке Жуковского с пометами владельца: Des P. Ovidius Naso sämmtliche Werke. Übersetzt von H. Heynemann, N. G. Eichhoff und J. P. Krebs. Bde 1–4. Frankfurt a/M., J. C. Herrmann, 1797–1803; Verwandlungen. Nach Publius Ovidius Naso von Johann Heinrich Voss. Theile 1–2. Berlin, Fr. Vieweg. d. Ä, 1798.)6. Замысел баллады об Алкионе 1814 года реализовался позднее. Сюжет, намеченный для баллады, воплотился в форме гекзаметрического перевода отрывка из латинского эпоса. В 1819 году Жуковский переводит фрагмент о Ке-ике и Алкионе из «Превращений» Овидия – «Це-икс и Гальциона».
Однако не все включенные в список сюжеты подлежали обновлениям. Сюжеты, варьирующие вечную тему любви: «Ацис» (то есть «Акид и Галатея»), «Геро», «Медея», – остались неосуществленными.
В эпизоде об Акиде и Галатее Овидий рассказал трагическую историю любви морской нимфы Галатеи и пастуха Акида. Римский поэт контрастно описывает нежные чувства Галатеи и Акида и грубую страсть циклопа Полифема к Галатее, а затем гибель Акида от руки циклопа, охваченного ревностью. Однако по воле богов произошло чудо. Кровь Акида, погибшего под огромным камнем, брошенным Полифемом, превратилась в водный поток, который расколол каменную глыбу и стал рекой, сохраняющей имя Акида, возлюбленного Галатеи. Трактовка данного сюжета в античной словесности неоднозначна, что, возможно, послужило причиной отказа Жуковского художественно разрабатывать этот миф. Согласно некоторым античным источникам, Галатея ответила циклопу взаимностью (Нонн. Деяния Диониса. XL, 565) и у них родилось потомство (Аппиан. Римская история. Х, 2). Образ отвергнутого циклопа, проводящего жизнь в одиночестве, ослепленного Одиссеем, вызывал уже у античных авторов скорее чувство сострадания, чем отторжения (Вергилий «Энеида» ΙΙΙ, 656–681). Четырехтомное немецкое издание 1803 года сочинений Вергилия было в библиотеке Жуковского: P. Vergilius Maro Varietate lectionis et perpetua adnotatione illustratus a Chr. Gottl. Heine. Vol. 1–4. Lipliae, C. Fritsch, 1803. (№ 2316, c. 313).
Миф об Арионе – второй в исследуемом списке баллад, восходит к греческому историку 5 века до Р. Х. Геродоту, который в первой книге «Истории» (Her. I, 23–24) рассказывает об известном кифареде Арионе, лучшем певце своей эпохи. Во время путешествия в Коринф на состязание певцов корабельщики задумали «выбросить Ариона в море и завладеть его сокровищами»7 (Her. I, 24). Арион умолял корабельщиков сохранить ему жизнь, предлагая им все свое богатство. Однако корабельщики, настаивая на смерти Ариона, разрешили ему исполнить последнюю песнь перед тем, как погибнуть. Окончив песнь, певец бросился в море, где, по рассказам, его подхватил дельфин и вынес на берег Тенара. В память о чудесном спасении на Тенаре сохранилась «небольшая медная статуя – жертвенный дар Ариона, изображающая человека на дельфине» (Her. I, 24). Корабельщики же, по прибытии в Коринф, вначале хотели скрыть свое преступление, но были так поражены внезапно появившимся перед ними Арионом «в том самом одеянии, в каком он бросился в море», что «не могли уже отрицать своей вины» (Her. I, 24).
Исторический труд Геродота рассматривался Жуковским в перспективе собственного творчества еще в период самообразования, когда в 1805 году он создавал «Роспись во всяком роде лучших книг и сочинений, из которых большей части должно сделать экстракты», где в разделе «Исторiя» Жуковским указано – «Hérodote»8. В библиотеке Жуковского есть немецкий пере- вод Геродота 1811–1812 годов, по которому поэт знакомился с трудом греческого историка, с пометами владельца в первой части на нижнем форзаце: Die Geschichten des Herodots. Übersetzt von Fr. Lange. Theile 1–2. Berlin, in der Realschulbuch-handlung, 1811–1812 (№ 1285, c. 184). Показательно, что сюжет об Арионе по содержанию близок балладе «Ивиковы журавли» – «Die Kraniche des Ibykus» Ф. Шиллера, которую Жуковский перевел в декабре 1813 года. Перевод «Ивиковых журавлей» впервые был опубликован в январском номере «Вестника Европы» 1814 года (Ч. 73. № 3. Январь. С. 200–205), в год, когда у Жуковского появился замысел баллады «Арион». Возможно также, что баллада об Арионе была задумана автором под влиянием баллады А. В. Шлегеля «Arion», напечатанной в Musen-Almanach в 1798 году.
Послания Жуковского 1812 и 1815 годов («Послание к Плещееву» 1812 года и «К графине С. А. Самойловой» 1815 года) также свидетельствуют об интересе поэта к античному сюжету об Арионе в этот период творчества [10].
По наблюдению современных исследователей, образ поэта играет важную роль в балладном мире Жуковского: «В “Эоловой арфе”, навеянной Оссианом и В. Скоттом, в “Ивиковых журавлях” и “Графе Гапсбургском” из Шиллера, в “Алонзо” из Саути певец Жуковского – живой голос мгновенья и вечности, “утешитель”, “пле-нитель сердец” и провидец: “В струнах золотых вдохновенье живет, // Певец о любви благодатной поет, // О всем, что святого есть в мире...”» [2: 237]. Таким образом, сюжет об Арионе, заявленный поэтом в записях о балладе, органично вписывается в балладное творчество Жуковского и является выражением его духовных интересов.
«Геро» – данное название в списке баллад указывает на замысел Жуковского обратиться к античному мифологическому сюжету о Геро и Леандре, широко распространенному в мировой литературе. Известно упоминание об этом сюжете в «Георгиках» Вергилия (Verg. Georg. ΙΙΙ, 258–263). К этому мифу обращается также Овидий в «Героидах» (Ovid. Her. 18, 19) – стихотворных посланиях, поэтических письмах мифологических героинь или героев к их возлюбленным. «Героиды» включают в себя 21 письмо. Письма 18 и 19 раскрывают мифологический сюжет о трагической любви Леандра и Геро. Письмо 18 написано от лица Леандра, письмо 19 представляет ответ Геро Леандру. Геро – жрица богини Афродиты, живущая в Сесте на европейском берегу Геллеспонта. Леандр – юноша из города Абидос в Троаде на противоположном берегу пролива. Леандр полюбил Геро и переплывал к ней каждую ночь через Геллеспонт, свет маяка на башне в Сесте указывал ему путь. Вот уже несколько дней бурное море не дает Леандру переплыть пролив. Леандр описывает бушующую морскую стихию и просит Геро молить богов, чтобы они сменили погоду, смягчили море, хотя бы на время. Ответное послание Геро говорит о том, что она терзается ревностью из-за долгого отсутствия возлюбленного. Хотя она очень ждет его, но просит Леандра не доверять бурному морю: «nec nisi tranquillo bracchia crede mari» (Ovid. Her. 19). Кроме Овидия, мифологический сюжет о Геро и Леандре воспет в небольшой поэме (в 340 стихов) Мусея Грамматика «Τα καθ’ Ηρώ και Λέανδρον» (5 век от Р. Х.), «самом изящном эпическом стихотворении времен римской империи» [9: 710]. В поэме Мусея миф получает завершение: в одну бурную ночь, в которую Леандр решился переплыть Геллеспонт, свет на башне погас, и юноша погиб в волнах. Утром следующего дня Геро увидела тело утонувшего Леандра у берега и сама бросилась с башни к нему в море, чтобы разделить с ним смерть. Творческие интерпретации этого античного сюжета широко представлены в европейской и отечественной словесности. Р. В. Иезуитова указывает на романс немецкого поэта Гельти (L. Ch. Hölty) «Leander und Hero» (1769/70), отразивший «эту поэтическую легенду о юной чете, которую не смогла разлучить даже смерть» [4: 144]. Жуковский был знаком с произведением Гельти, в его библиотеке есть двухтомное собрание сочинений этого немецкого автора: Sammtliche Gedichte von Ludwig Heinrich Hölty. B-de 1–2. Wien, R. Sammer, 1803 (№ 2648, c. 364–365). Миф о Геро и Леандре лег в основу баллады Ф. Шиллера «Геро и Леандр» – «Hero und Leander» (1801). Возможно, что при написании плана баллад 1814 года Жуковский ориентировался именно на балладу Ф. Шиллера, которой свойственны «философская глубина и эмоциональная насыщенность» [4: 144]. В отечественной традиции Жуковскому были известны художественные интерпретации этого мифологического сюжета Н. Ф. Мерзлякова и Н. Ф. Остолопова [4: 144].
«Медея» – мифологический сюжет, задуманный Жуковским для баллады, варьирующий тему трагической любви. Первые упоминания мифа о Медее, волшебнице, дочери колхидского царя Ээта, героине мифа о Ясоне и Аргонавтах, встречаются еще у Гесиода в «Теогонии» (Hes. Theog. 992–1002). Более всего этот мифологический сюжет известен по трагедии Еврипида «Медея» (Eur. Med). Пятитомное издание трагедий Еврипида в немецком переводе находилось в библиотеке Жуковского: Euripides’ Werke. Verdeutscht von Fr. Heinr. Bothe. Bde 1–5. Berlin u. Stettin, Fr. Nicolai, 1800–1803. (№ 999, c. 149). В «Росписи» 1805 года в разделе «Поэзiя» значится имя Еврипида – «Euripide»9. Согласно Еврипиду, Медея, узнав, что Ясон решил жениться на Креусе, дочери коринфского царя, убила соперницу, ее отца и двух своих сыновей, рожденных от Ясона, а затем бежала в Афины. У античных авторов существуют разные варианты окончания данного сюжета: в 7-й книге «Превращений» (Ovid. Met. 1–424) и в «Героидах» Овидия (Ovid. Her. 12), в «Мифах» Гигина (Hyg. Fab. 21–26), в «Описании Эллады» Павсания (Paus. II, 3, 6–11), а также у Аполлодора в «Мифологической библиотеке» (Apld. I, 8, 23-28), по которой Жуковский знакомился с античной мифологией в 1805–1811 годах [6]: Apollodor. Bibliothèque d’Apollodore l’Athénien. Traduction nouvelle, avec le texte grec revu et corri-gé des notes et une table analytique, par E. Clavier. T. 1–2. Paris, chez Delance, an XIII (1805) (№ 558, c. 88). Античный сюжет о Медее был унаследован европейской литературой. Трагедия Пьера Корнеля «Медея» (Pierre Corneille «Médée», 1635), популярная в XVIII веке, встречается в «Росписи во всяком роде лучших книг и сочинений, из которых большей части должно сделать экстракты» Жуковского в разделе «Поэзiя» – «Oeuvre <…> de Corneille; Commentaires sur Corneille»10.
Сюжет о дружбе в разделе «Греческ<ие>» в плане баллад – «Дамон и Пифия». Указывая название данного сюжета, Жуковский ориентировался на балладу Ф. Шиллера «Die Bürgschaft» («Порука»), опубликованную в 1799 году в Musen-Almanach. Сюжет о Дамоне и Пифии (Пифиасе, или Финтии), о дружбе и верности данному обещанию заимствован немецким автором из книги римского мифографа Гигина «Мифы» (Hyg. Fab. 257), о чем свидетельствует переписка Шиллера и Гете 1797–1798 годов (15, 16 декабря 1797 года; 28, 29 августа и 4, 5 сентября 1798 года). Книга Гигина написана по-латински, однако является переводом и переработкой сочинения неизвестного греческого автора. Примечательно, что Гигин называет героев 257-й фабулы Мойр и Селинунтий. Тогда как Мойра обычно называют Пифием (или Финтием), а Селинун-тия – Дамоном. Имя Damon в балладе Шиллера указывает на знакомство поэта с более ранними античными интерпретациями сюжета. Распространенный в античной словесной культуре, данный сюжет восходит к древнегреческому философу Аристоксену Тарентскому (Iambl. Vit. Pyth. 234). Затем он был унаследован Цицероном в философском трактате «Об обязанностях» (Cic. De off. III, 45) и Диодором Сицилийским, древнегреческим историком и мифографом, в «Исторической библиотеке» (Diod. Sic. X, frg. 4). Шиллер обновляет античный сюжет – в балладе «Die Bürgschaft» («Порука») Damon выступает в роли Пифиаса (Финтия).
Баллада «Поликратов перстень» (1831), единственная из осуществленных в исследуемой росписи 1814 года, представляет перевод баллады Ф. Шиллера «Der Ring des Polykrates» («Кольцо Поликрата»). Сюжетом для баллады послужила легенда о кольце самосского тирана Поликрата, рассказанная Геродотом в «Истории» (Her. III, 39–43). Согласно Геродоту, «великий счастливец»
(Her. III, 125) тиран Поликрат, осыпанный дарами и многочисленными победами над неприятелем, по совету друга бросает в море кольцо в жертву богам. Через некоторое время кольцо неожиданно возвращается к Поликрату, что явилось предзнаменованием того, что боги не приняли жертву Поликрата и что близок трагический финал его жизни11.
В исследуемой росписи сюжетов 1814 года Жуковским были намечены три баллады для перевода из Шиллера: «Геро» («Hero und Leander»), «Дамон и Пифия» («Die Bürgschaft»), «Поликра-тово кольцо» («Der Ring des Polykrates»). К 1814 году Жуковский уже перевел из Шиллера две баллады на античный сюжет: «Kassandra» («Кассандра», 1809) и «Die Kraniche des Ibykus» («Иви-ковы журавли», 1813). Долбинской осенью 1814 года Жуковский создает оригинальную балладу «Ахилл», ориентируясь на шиллеровский опыт интерпретации античных сюжетов в форме балладного жанра. Таким образом, весь перечень «мифологических» и «греческих» сюжетов можно считать невеянным балладами немецкого поэта, о чем свидетельствует также желание поэта осенью 1814 года приобрести новое двенадцатитомное собрание сочинений, вышедшее после смерти немецкого автора (Friedrich von Schillers sammtliche Werke. Stuttgart und Tubingen, 18121815) [12: 174]. Согласно биографическим сведениям, «покидая московский университетский пансион, В. А. Жуковский… уже увозил с собою полное издание сочинений Шиллера»12. Однако в письме к А. И. Тургеневу от 8 ноября 1814 года, находясь в долбинском имении Киреевских, Жуковский просил друга прислать ему собрание сочинений Шиллера: «Нет ли в Петербурге соч. Шиллера, вышедших после его смерти? Я желал бы иметь их»13. «Так как в последующих письмах к Тургеневу новые упоминания об этих сочинениях отсутствуют, то есть основание думать, что просьба Жуковского была исполнена сразу же», – пишет исследователь А. С. Янушкевич [12: 174].
Уже в дневниках 1805–1806 годов молодой Жуковский замечает, что «Шиллер менее прост и живописен» [3: 36], что «Шиллер более философ, а Бюргер простой повествователь, который, занимаясь предметом своим, не заботится ни о чем постороннем» [3: 37]. Таким образом, в «античных» балладах Шиллера Жуковский усматривал философскую глубину и «неисчерпаемое богатство мыслей»14, сочетающееся со «стремлением Шиллера к нравственному идеалу», «к высшей правде»15. Вслед за Шиллером Жуковский составляет план баллад и обращается к античным сюжетам, провозглашающим вечные ценности любви, дружбы, веры в Провидение, в бессмертие души и трагическую губительность страстей. Не случайно в 1814 году, в год духовного и творческого подъема, в год, когда надежды на личное счастье были почти потеряны, на страницах сво- его дневника Жуковский размышляет о главной христианской молитве «Отче наш» [3: 84–86].
Таким образом, исследование библиотеки Жуковского, изучение дневниковых записей, писем позволяет выявить источники сюжетов «античных» баллад, намеченных поэтом для перевода или подражания в 1814 году.
Разделение «античных» сюжетов на «мифологические» и «греческие» свидетельствует о чтении и изучении русским поэтом памятников античной греко-римской словесности. Герои
«греческих» сюжетов, в отличие от «мифологических», – исторические персонажи (Дамон и Пи-фиас – греки-пифагорейцы 5–4 веков до Р. Х.; Поликрат – тиран острова Самос 6 века до Р. Х.).
Обращение Жуковского к античной культуре, к иноязычным образцам, изучение их и желание дать им «вторичную жизнь» [11: 82] в русской культуре говорит о том, что они «служили выражению народившихся духовных интересов» [1: 303] и устремлений автора и его современников.
Список литературы Замысел «античных» баллад в планах В. А. Жуковского 1814 года
- Веселовский А. Н. Поэтика сюжетов//Историческая поэтика. М.: Высш. шк., 1989. С. 300-306.
- Вётшева Н. Ж., Жилякова Э. М. Баллады Жуковского//Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 3. Баллады. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 229-240.
- Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 13. Дневники. Письма-дневники. Записные книжки. 1804-1833 гг./Сост. и ред. О. Б. Лебедева и А. С. Янушкевич. М.: Языки славянской культуры, 2004. 608 с.
- Иезуитова Р. В. Баллада в эпоху романтизма//Русский романтизм. Л.: Наука, 1978. С. 138-163.
- Куйкина Е. С. «История» Геродота как источник сюжета баллады Ф. Шиллера «Поликратов перстень» и перевод В. А. Жуковского//Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. № 4. Ч. 2. Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2013. С. 85-88.
- Лебедева О. Б. Немецкая и французская традиции восприятия античности в эстетических штудиях В. А. Жуковского 1805-1811 гг.//Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Ч. III. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1988. С. 466-499.
- Лебедева О. Поликратов перстень («На кровле он стоял высоко.») //Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 3. Баллады. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 400-403.
- Литинская Е. П. Рецензия и рецепция античной поэзии в творчестве В. А. Жуковского. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011. 312 с.
- Любкер Ф. Иллюстрированный словарь античности. Исправленное и дополненное издание. М.: ЭКСМО, 2005. 1344 с.
- Моисеева А. А. Античные мифы в русской поэзии: спасение Ариона//Филолог. Научно-методический, культурно-просветительский журнал ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет». 2010. № 11 . Режим доступа: http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_11_199 (дата обращения: 09.03.2016).
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 17 т. Т. 12. М.: Воскресенье, 1996. 588 с.
- Янушкевич А. С. Немецкая эстетика в библиотеке В. А. Жуковского//Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Ч. 2. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1984. С. 140-225.