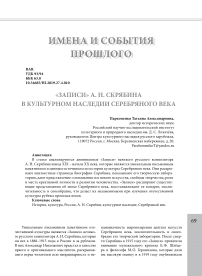"Записи" А. Н. Скрябина в культурном наследии Серебряного века
Автор: Пархоменко Татьяна Александровна
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Имена и события прошлого
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются дневниковые "Записи" великого русского композитора А. Н. Скрябина конца XIX -начала XX века, которые являются уникальным письменным памятником и ценным источником по истории культуры Серебряного века. Они раскрывают неизвестные страницы биографии Скрябина, показывают его творческую лабораторию, дают представление о понимании им нового искусства, свободы творчества, роли и места креативной личности в развитии человечества. "Записи" расширяют существующие представления об эпохе Серебряного века, восстанавливают ее колорит, исключительность и своеобразие, что делает их незаменимыми при изучении отечественной культуры рубежа прошлых веков.
История, культура, Россия, а. н. скрябин, культурное наследие, серебряный век
Короткий адрес: https://sciup.org/170173960
IDR: 170173960 | УДК: 93/94 | DOI: 10.34685/HI.2019.27.4.010
Текст научной статьи "Записи" А. Н. Скрябина в культурном наследии Серебряного века
Уникальным письменным памятником отечественной культуры являются «Записи» великого русского композитора А.Н. Скрябина, которые он вел в 1888–1915 годы в России и за рубежом. В них Александр Николаевич предстал в качестве яркого и оригинального мыслителя, раскрывавшего перед читателем всю неординарность и не- однозначность мировоззрения деятеля искусств Серебряного века, исключительность и своеобразие его творческой лаборатории. После смерти Скрябина в 1915 году его «Записи» привлекли внимание музыкального критика Б.Ф. Шлёце-ра и философа М.О. Гершензона, которые дали им высокую оценку и в 1919 году опубликовали в сборнике материалов по истории отечественной мысли и литературы «Русские пропилеи»1. В настоящее время они являются библиографической редкостью, известной лишь узкому кругу специалистов, но их значение, ставшее по прошествии века еще более весомым, требует широкого включения в научный оборот.
«Записи» А. Н. Скрябина, помещенные во второй раздел шестого тома сборника «Русские пропилеи», состоят из девяти частей и представляют собой не только дневниковые заметки с поясняющими рисунками, но и рабочие материалы, связанные с написанием Первой симфонии, либретто оперы, «Поэмы экстаза» и двух редакций «Предварительного действия» к «Мистерии» – последнего, задуманного композитором, симфонического произведения, завершить которое он из-за внезапной кончины не успел. Предваряют «Записи» Скрябина небольшое предисловие и обстоятельная записка Б. Ф. Шлёцера о «Предварительном действии», факсимиле которого дается при описании его ранней редакции самим Скрябиным.
Все материалы «Записей» композитора говорят о его органичной включенности в культуру Серебряного века, которой были присуще поиски новой «меры мира» и появление «нового стиля» в искусстве, ломавшего старые художественные формы, прежние, не отвечавшие современности, этические, эстетические, религиозно-философские доктрины. Русская идея, испокон веков считавшаяся идеей общественно-государственного служения, новым поколением литераторов, живописцев, музыкантов, философов стала пониматься как идея культуры и ее ценностей – свободного творчества, искусства и красоты. Еще в конце XIX века в Петербурге возникло объединение «Мир искусства», выступившее за самое широкое восприятие прекрасного и в 1898 году приступившее к изданию журнала «Мир искусства», главную роль в котором играли С.П. Дягилев и А.Н. Бенуа. Через четыре года ими было основано художественное предприятие «Современное искусство», задавшееся целью вызвать в России «новый Ренессанс» и создать новый стиль «чистой красоты». А в 1906 году П.Б. Струве и С.Л. Франк основали журнал «Свобода и культура», который видел в культуре глав- ное условие свободы, в свободе – основу творчества и искусства, а в искусстве – высшую форму свободы.
Провозглашение культуры и свободы главными ценностями изменило отношение к жизни, рассматривавшейся уже не только и не столько с позиций критического реализма, сколько через призму идеализма, романтизма и символизма с их «Золотом в лазури» (А. Белый), «Златолирой» (И. Северянин), «Литургией красоты» и девизом «Будем как солнце» (К. Бальмонт). Представление о смысле жизни и творчества все более наполнялось гедоническим порывом к счастью и воплощалось в праздничных картинах мирискусников, литературных образах «Серебряного голубя» А. Белого, «Альбатроса» К. Бальмонта, «Чайки» А. Чехова, ставшей эмблемой Московского художественного театра, или симфонической поэмы «Прометей» А. Скрябина. «…Искусство должно давать счас-тье и радость, – утверждал В.Д. Поленов, – иначе оно ничего не стоит»2.
Именно в рубежное время конца XIX – нача-ла XX века родился афоризм, ставший лейтмо-тивом всей эпохи Серебряного века – «Человек создан для счастья, как птица для полета», автором которого был В.Г. Короленко, вызвавший в России бурную дискуссию на тему «русского счастья»3. В нее включился даже Л.Н. Толстой, издавший в 1906 году работу «В чем счастье» и полагавший, что оно состоит в труде, здоровье, единении с природой и в «свободном любовном общении со всеми разнообразными людьми мира»4. Об этом же писал в своих «Записях» и А.Н. Скрябин, считавший, что «познал лишь тот блаженство, / кто труда изведал сладость. / Кто в пленительном ис-каньи / жизнь приятно проводил, / кто в могущественном знаньи / утешенье находил / любовью полную любил»5.
В общем, деятели Серебряного века захотели жить так, как творили, а творить, как чувствовали – ярко, сильно и независимо. Они заявили о суверенности одаренной творческой личности, ее праве на художественную раскованность, мно-голикость образов, буйство красок, экстаз чувств. Возникшая у них потребность в стилевом разнообразии, особой цветовой гамме, динамичности и ритмичности художественных средств, привела их к идее синтеза культуры и искусств – музыкального, поэтического, живописного, сценического, – при котором происходило не простое сближение, а взаимопроникновение звука, слова, цвета, формы, ритма, в результате чего возникали «музыкальные полотна» с «Сонатой солнца» или «Сонатой звезд» Н. Чюрлёниса, сценическая композиция «Желтый звук» В. Кандинского и Ф. Гартмана, «стихокартины» В. Каменского и другие удивительные сочинения.
А.Н. Скрябин был ярким представителем этого синтетического направления в искусстве, формировавшего новую эстетическую реальность путем сложной амальгамы интимных эмоций и «огненного порыва» творчества. Не случайно его страстными поклонниками являлись Борис Пастернак, считавший дату знакомства с композитором (6 августа 1903 года) переломной в своей судьбе, и Айседора Дункан, превратившая танец в «музыку и поэзию тела», сделавшая его символом раскрепощения и свободы. В историю отечественной и мировой культуры Скрябин вошел как изобретатель свето-цветомузыки, который в 1910 году ради максимальной выразительности художественных образов и искусно найденных символов впервые ввел в партитуру симфонической поэмы «Прометей» цветовую гамму. Синтез звука и света, музыкальной палитры с палитрой красок и чувств позволил композитору создать такие необычные композиции как «Поэма мечты», «Поэма экстаза», «Поэма огня», не случайно художественный критик Н. И. Куль-бин в докладе «Новое искусство как основа жизни», сделанным на диспуте «Бубнового валета» 12 февраля 1912 года в Политехническом музее Москвы, проводил прямые «параллели между кубизмом и музыкой диссонансов, между Пикассо и Скрябиным…»6. Оба они, создавая фантазий- ную реальность, сместили значимость произведения из области содержания в область выражения, от мысли к чувству, от «культуры смысла» и ее простого воспроизведения, пересказа к искусству интуиции и интонации, где музыка, живопись, поэзия и проза сливаются в новые формы и артефакты. Для них было важно не столько то, что изображено, сколько как представлено, через какие краски, звуки, символы и знаки, в какой манере и каким способом. Синкретичность творчества давала им в этом плане безграничные возможности.
Отмечая вклад Скрябина в музыкальную культуру, Б. Ф. Шлёцер писал, что композитор «хотел восстановить гармонический синтез трех искусств: музыки, поэзии и танца (включая мимику и пластику) путем сложного контрапун-ктирования слова, музыкального звука и жеста. Музыка не должна была вовсе следовать за словом или за движением, но слово, действие и звук, сплетаясь в тесном сочетании, образовывали единую сплошную ткань произведения», и главное сочинение композитора – «Мистерия» с «Предварительным Действом» к ней, по его замыслу, не должно быть «музыкой + поэзия + танец, но оно является именно созданием единого искусства, в котором лишь анализ вскрывает элементы пластические, поэтические, музыкальные…», то есть Скрябин «шел от целого к частному, от Предварительного Действа, узренного им, как цельный синтетический акт, к его музыкальным и поэтическим элементам»7.
Оригинальна была художественно-философская концепция Скрябина, подробно изложенная в его дневниковых «Записях». В оценке жизни и творчества композитор исходил из двух постулатов своего credo: первое, что «мир тесен для меня, краски тусклы», второе – «мир есть творческий акт. Он есть мой творческий акт, единый, свободный…», и «творить, значит отделяться, значит желать нового, другого», следовательно, «я только то, что я создаю (творю)»8. Такой подход проходил красной нитью через все «Записи» ком- позитора, пытавшегося понять суть творчества, роль творца в мире и свое место в нем.
Скрябин задавался вопросами: «Если мир есть моя единая и абсолютная свободная деятельность, то что же есть истина, которой я в себе не ощущаю и из-за которой я столько страдал и которую так долго искал и хотел?», и «если мир мое творчество, то вопрос о познании мира сводится к вопросу о познании природы свободного творчества. Как я создаю…, что я создаю? В чем состоит процесс моего творчества?»9 Решив, что «творчество не может быть объяснено ничем. Оно есть высшее представление (понятие), ибо оно производит все понятия», А.Н. Скрябин «приступил к изучению природы свободного творчества, т. е. другими словами к изучению самого себя, к самонаблюдению, к исследованию материала нами производимого»10.
На рубеже 1904–1905 годов он писал: «Я хочу нового, неизведанного. Я хочу творить. Я хочу свободно творить. Я хочу быть на вершине. Я хочу пленять своим творчеством… Я хочу быть самым ярким светом, самым большим (одним) солнцем, я хочу озарять (вселенную) своим светом, я хочу поглотить все, включить (все) в свою индивидуальность. Я хочу подарить (миру) наслаждение... Мне нужен мир. Я весь – переживаемые мною чувства, и этими чувствами я создаю мир»11. И затем чуть ниже уточнял: «Я жить хочу. Я хочу творить. Я действовать хочу и побеждать… Я центр вселенной и вселенная около центра… К жизни, к расцвету!.. Всякому чувству, всякому исканию, всякой жажде я дарю расцвет… Я люблю жизнь! Я весь свобода и любовь к жизни… Я хочу быть Богом. Я хочу победить себя. Я хочу… творить землю и планетные системы звезд (космос)»12.
Скрябин был убежден в том, что «история человечества (вселенной) есть история гениев», ибо «гений – жажда нового», и «рост человеческого сознания есть рост сознания гениев… Гений вполне вмещает все переливы чувств отдельных людей и потому он как бы вмещает сознания всех современных ему людей»13. Но для того, чтобы быть гением, полагал композитор, «нужна индивидуальность и нужен полный ее расцвет», поэтому Скрябин «хотел полного расцвета индивидуального» и говорил: «Расцветай пышно. Развивай все свои таланты» и тогда «весь мир затопит волна моего бытия»14. Он разработал целую «философию деятельности» творца как «хотение иного», как «протест и стремление к новому порядку», как «подъем жизни», который «в высочайшей степени есть экстаз....Есть высший подъем деятельности, экстаз есть вершина», и «в форме мышления экстаз есть высший синтез. В форме чувства экстаз есть высшее блаженство. В форме пространства экстаз есть высший расцвет и уничтожение», открывающие дорогу новой деятельности, новому творчеству через волю к жизни и обновле-ние15. «Честно я могу утверждать, – признавался Александр Николаевич, – что всегда чего-нибудь хочу… Человек, который ничего не хочет, решительно ничего, должен в самом скором времени умереть… Организм, который не эволюционирует, т.е. не ищет сознательно или бессознательно новых переживаний, атрофируется и потом вымирает…», и «я хочу пережить высоту всеобъемлющего сознания, хочу пережить экстаз»16.
Скрябин внушал себе и другим: «Люби жизнь всем своим существом, и ты всегда будешь счастлив. Не бойся быть тем, чем ты хочешь быть, не бойся своих желаний. Не бойся жизни, не бойся страданий, ибо нет выше победы над отчаянием. Ты должен быть всегда лучезарен. Если ты некрасив, и тебя гнетет это, – борись, и ты победишь эту болезнь. Если ты стар, и тебя твоя старость угнетает – она преждевременна, она та же болезнь, которую ты силою желания и борьбы можешь победить… Смотри на всякий гнет только как на препятствие, как на признак того, что ты еще в силах победить то, что тебя угнетает. Люби людей, как жизнь, как твою жизнь, как твое созданье, – люби их свободно» и «будь божественно горд, а потому никогда не завидуй, так как зависть есть признание себя побежденным. Старайся превзойти всех. Если тебя мучит и угнетает отсутствие таланта, это признак зерна таланта; расти его и не отчаивайся. Зависть и отчаяние – смерть», по- этому радуйся творчеству других людей… Старайся быть всегда простым и искренним, т. е. не бойся желать и делать всегда, что хочешь. Иначе не бойся свободы», ибо «Бог – единое всеобъемлющее сознание – свободное творчество»17.
Философско-эстетическая концепция Скрябина составляла основу его очень своеобразных по литературному тексту, музыкальному языку и названиям произведений, полных символической образности и стилистики: «Поэма томления», «Ласка в танце», «Божественная поэма», «Хрупкость», «Странность», «К пламени» и другие. Сочиняя, например, «Поэму экстаза», 370 поэтических строк и музыка которой впервые были изданы в 1906 году в Женеве18, композитор определял ее тему как «сладость мечты, окрыляющий дух, желание творить, томление, жажда неизведанного», столкновение этих «дивных образов и чувств» с темными силами и победа над ними «жаждой жизни окрыленного» Духа: «Предчувствия мрачного / Ритмы тревожные / В мир очарованный / Грубо врываются, / Но лишь на миг. / Легким усилием / Воли божественной / Он изгоняет / Призраки страшные…» – писал Скрябин19.
Конечно, в жизни все было иначе, и «ритмы тревожные», «призраки страшные» мучили Россию и мир отнюдь не миг, а почти весь XX век, но правота А.Н. Скрябина заключалась в том, что победа всегда остается за творчеством и созиданием, иначе от человечества и его культуры не осталось бы и следа. Бенедикт Лившиц, вспоминая время Серебряного века, видел его суть «в том, что мир раскрылся по-иному, и надо рассказать об этом как можно полнее на всех живописных языках и наречиях, захлебываясь от восторга, хватая первое подвернувшееся слово, не думая о соблюдении какого-либо этикета, о неприкосновенности чьих-то прав и границ», в результате, «рисовалась такая картина: навстречу Западу, подпираемые Востоком, в безудержном катаклизме надвигаются залитые ослепительным светом праистории активистические пласты, дилювиальные ритмы, а впереди, размахивая копьем, мчится в облаке радужной пыли дикий всадник, скифский воин, обернувшись лицом назад и только полглаза скосив на Запад, – полутораглазый стрелец!»20. Этот образ в той или иной мере был присущ каждому деятелю культуры Серебряного века, в том числе и Александру Николаевичу Скрябину.
Список литературы "Записи" А. Н. Скрябина в культурном наследии Серебряного века
- А. Н. Скрябин // Русские пропилеи. Материалы по истории русской мысли и литературы. Собрал и приготовил к печати М. Гершензон. Т. 6. М.: Издательство М. и С. Сабашниковых, 1919. С. 97-48.
- Записи Скрябина // Русские пропилеи. Материалы по истории русской мысли и литературы. Собрал и приготовил к печати М. Гершензон. Т. 6. М.: Издательство М. и С. Сабашниковых, 1919. С. 120-48.
- Записка Б. Ф. Шлецера о Предварительном Действии // Русские пропилеи. Материалы по истории русской мысли и литературы. Собрал и приготовил к печати М. Гершензон. Т. 6. М.: Издательство М. и С. Сабашниковых, 1919. С. 99-19.
- Короленко В. Г. Парадокс // Короленко В. Г. Избранное. М.: Правда, 1979. С. 342.
- Лившиц Б. Полутораглазый стрелец // Наше наследие. 1989. № I (7). С. 130-37.
- Поленова Н. В. Отрывки из воспоминаний // Панорама искусств. 10. М.: Советский художник. 1987. С. 168-94.
- Толстой Л. Н. В чем счастье. М.: Посредник, 1906. -16 с.
- Le Poeme de l'Extase. Le texte et la musique par A. Scriabine. Geneve: Imprimerie Centrale, 1906. Op. 54.