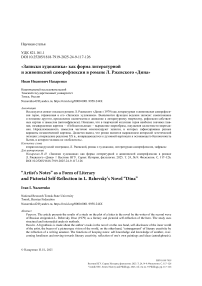«Записки художника» как форма литературной и живописной саморефлексии в романе Л. Ржевского «Дина»
Автор: Назаренко И.И.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
Исследуется сюжет письма в романе Л. Ржевского «Дина» (1979) как литературная и живописная саморефлексия героя, отраженная в его «Записках художника». Выявляются функции ведения записок: самопознание и познание другого, преодоление одиночества и движение к литературному творчеству, рефлексия собственных картин и замыслов (автоэкфрасисы). Показано, что в творческой коллизии героя наиболее значима главная, незавершенная картина – «Победительница» – выражение мирообраза, ощущения целостности мироздания. Нереализованность замыслов частично компенсируют записки, в которых зафиксированы разные варианты незаконченной картины. Делается вывод, что роман является выражением авторской эстетической позиции: утверждение реализма ХХ в., возвращающегося к духовной вертикали и осознающего бесконечность бытия, в котором человек не «победитель».
Вторая волна русской эмиграции, Л. Ржевский, роман о художнике, литературная саморефлексия, экфрасис
Короткий адрес: https://sciup.org/147252335
IDR: 147252335 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-9-117-126
Текст научной статьи «Записки художника» как форма литературной и живописной саморефлексии в романе Л. Ржевского «Дина»
,
,
Леонид Ржевский (1903–1985), писатель и литературовед второй волны русской эмиграции, в поздних «эмигрантских» романах («Две строчки времени» (1976), «Дина» (1979), «Бунт подсолнечника» (1981)) исследует судьбу творческой личности в чужом национальном мире в ситуации девальвации культуры. В основе сюжетов «эмигрантских» романов Ржевского – попытка диалога двух поколений: второй волны и послевоенного поколения, входящего в пространство жизни. Традиционная реалистическая поэтика Ржевского в этих романах усложняется разными формами литературной саморефлексии: сюжетами письма, писательства и чтения, введением и рефлексией художественных текстов пишущих персонажей и др. Усложнение поэтики писателя мы объясняем не влиянием постмодернистской культурной ситуации, а, с одной стороны, влиянием на творчество его филологических исследований, с другой – интенцией литературы русской эмиграции, развивающейся в гетерогенной культуре, в отрыве от родной языковой среды, к самоописанию.
Роман «Дина» становился предметом научной рефлексии лишь в обзорной главке в диссертации А. А. Коновалова, представляющей комментирование романа и выявление отдельных его художественных особенностей (живописность повествования, фрагментарность композиции и др.) [Коновалов, 2000, с. 229–235], и упоминался в отдельных статьях в контексте творчества Ржевского [Агеносов, 2015].
Мы обратимся к роману «Дина» (подзаголовок «Записки художника»), который интересен не как новый этап отечественного романа о художнике, а как художественное высказывание о судьбе искусства в постклассической культуре и как освоение писателем второй волны русской эмиграции «метатекстовой» поэтики литературы второй половины ХХ в., т. е. прежде всего в контексте проблемы творческого развития Ржевского.
Для анализа записок героя как формы литературной и живописной саморефлексии важно выявить, во-первых, жанровую семантику записок, неопределенную, в отличие от близкого жанра дневника. Самое общее определение записок – жанр, «связанный с размышлениями о пережитом и подразумевающий выражение личного отношения автора или рассказчика к описываемому» [Литературная энциклопедия…, 2001, стб. 277], «не имеющий четкой канонической формы, наиболее подвижный и способный вбирать в себя другие жанры», его единственное ограничение – «повествование от первого лица» [Скрипник, 2008, с. 15]. Записки отделяют от дневника: «Если определять дневник как подневные <…> записи, фиксирующие не ретроспективный, а процессуальный взгляд человека на себя и жизнь, не имеющие адресата <…>, то записки из этих признаков сохраняют прежде всего фрагментарность, персонализированность и процессуальность» [Савкина, 2013]. Выделяют такие черты записок: «автором их мог стать кто угодно»; «композиция повествования свободна», «особая художественность, которая выражает “беспорядок” современной жизни, допускает в сюжет случайное, хаотическое, “немотивированное”» [Захаров, 1985, с. 39–40].
Во-вторых, уточним наше понимание экфрасиса. В широком смысле это «всякое воспроизведение одного искусства средствами другого» [Геллер, 2002, с. 13], перевод «с языка одной семиотической системы на язык другой» [Рубинс, 2003, с. 14]. Л. Геллер уточняет, что экфрасис – лишь «восприятие объекта и толкование кода», поэтому живописный экфрасис
«в первую очередь – запись последовательности движений глаз и зрительных впечатлений. Это иконический <…> образ не картины, а видения, постижения картины» [Геллер, 2002, с. 10]. Помимо этого, экфрасис является средством «обнажения приема» [Геллер, 2013, с. 58], саморефлексии искусства.
В «Дине» Ржевский отдает авторство романного текста Пьеру, создателю «записок художника», что позволяет интерпретировать авторскую задачу, с одной стороны, как попытку раскрыть внутренний мир носителя живописного видения мира. С другой стороны, автор «остраняет» литературное творчество рефлексией пишущего дилетанта, показывая, как художник, прежде выражавший свое мировидение в пластических формах, пытается «перевести» их в формы словесного искусства.
Автоэпиграф романа обнажает авторский прием: объясняется выбор героя и субъекта повествования – художника Пьера: «Собравшись писать о Дине, я долго примеривался… <…> Не доверяя личным своим угадкам, я вкладываю ее историю в уста нашего друга Пьера, мастера не словесных, но живописных фигур, вписавшего ее, как будет видно дальше, в свою собственную судьбу» (Ржевский, 1979, c. 5) 1. С одной стороны, это увеличивает дистанцию между автором и героем, «переводит повествовательный вектор в неавтобиографическое русло» [Коновалов, 2000, c. 229]. Хотя Пьер близок другим героям эмигрантских романов Ржевского: это стареющий русский эмигрант второй волны, переживший сталинские репрессии и Великую Отечественную войну; «мостостроитель и постепеновец» (с. 6) в отношении к советской метрополии, сомневающаяся в своем таланте творческая личность. С другой стороны, автоэпиграф проявляет установку не на подлинность «человеческого документа», как у младоэмигрантов первой волны, а на литературную игру: «наш друг Пьер» – второстепенный персонаж «Двух строчек времени», предыдущего романа Ржевского, т. е. автор в автоэпиграфе обращается к своему читателю и объединяет свои романы в единый текст о русских эмигрантах.
Роман «Дина» – это роман о вымышленном художнике, осваивающем искусство слова. В иерархической метатекстовой структуре романа сознание автора «завершает» фрагментарные тексты героя, преобразовывает их в романное целое. В «записках художника» сюжет письма, обрамляя сюжет реальности, перерастает в сюжет движения к литературному творчеству, вводит рефлексию собственных вербальных и визуальных текстов, рефлексию литературы и живописи как разных видов искусства. Записки Пьера не монологичны, воплощают его диалогическое сознание живописца, включают «голоса» и представления об искусстве разных персонажей (сестры Пьера Моб, критика и литературоведа Сергея Сергеича и др.).
По оценке Сергея Сергеича, Пьер – «физиологический бытовой очеркист в живописи», хотя в нем ему видится и «эмбрион романтизма» (с. 20). Моб выстроила миф о Пьере как «великом художнике», который рано или поздно напишет «необыкновенную картину» (с. 7). Творческая самооценка Пьера более скептическая: он осознает свои эпигонство, несовершенство и нереализованность: «ничего особенного в жизни не создал, никакой не достиг исключительности» (с. 121).
Объективно определить творческий метод Пьера сложно, поскольку прямо он не называет свои ориентиры в живописи и упоминаний художников в романе в целом не так много. Это русский иконописец А. Рублев и русские художники Серебряного века А. Бенуа и М. До-бужинский, английский академист У. Хогарт, французские романтик Э. Делакруа, (пост)им-прессионисты П. Сезанн и А. Матисс и фовист В. Ван Гог и др. Представляется, что более всего к внутреннему ориентиру Пьера близок Сезанн: во-первых, его имя упоминается чаще других (3 раза), во-вторых, дважды вводятся экфрасисы его картин: вид из окна своей студии Пьер соотносит с «Мостом на реке» Сезанна, а работая над своей главной картиной «Победительница», опирается на «Больших купальщиц». К вопросу о влиянии Сезанна на Пьера мы вернемся позже.
Роман делится на две части. Ключевая ситуация в первой части - встреча и сближение в Скандинавии творческих личностей двух разных поколений: 50-летнего Пьера и 25-летней Дины, сначала «отпущенки» из Советского Союза, в финале — невозвращенки. Дина для Пьера - воплощение исконной сущности России, реальности и ее динамики, которой лишены его спокойное существование в Скандинавии и его живописные «типажи». Во второй части Пьер с сестрой из-за ее страха перед советскими спецслужбами, осведомительницей которых Моб считает Дину, отправляются в новую эмиграцию, в США. Меняется и духовное состояние героя: внутренняя «катастрофа» без Дины и без живописи, в Америке, наполненной ненавистными герою шумом, суетой и скоростью.
Именно вхождение Дины в жизнь Пьера катализирует кризис его самоидентичности и живописного творчества и толкает к писанию текстов, записок, в которых можно закрепить свой личный опыт, процессуальность жизни и изменчивость Я и Другого в эмпирическом потоке, т. е. недоступное живописи, фиксирующей лишь «моменты», динамичные, но не «протяженные» мгновения жизни. Напомним: еще Г. Лессинг утверждал, что словесное и изобразительное искусства направлены на подражание природе, но если в живописи, «где все дается лишь одновременно, в сосуществовании, можно изобразить только один момент действия» [Лессинг, 1933, с. 111], то поэзия передает «закономерность явления в его развитии, в его незавершенном состоянии» [Там же, с. 21].
Дина - героиня не только портретов Пьера, в том числе «Победительницы», его главной картины, но и его записок. Она глубока и изменчива, как сама реальность, и именно записки, а не картины, становятся наиболее адекватной формой ее познания. Неслучайно Пьер подчеркивает не тождество, а различие литературы и живописи, оспаривая афоризм Симонида Кеосского: «Живопись - это немая поэзия; поэзия - говорящая живопись» (с. 33-34). Записки позволяют приблизиться к пониманию реальной женщины, столкнув разные образы Дины: субъективные образы в записках, на картинах и в их замыслах и представления о ней других персонажей. Кроме того, записки для Пьера становятся способом разгадывания не только другого, как в портретной живописи, но и себя, рефлексией изменения отношения к жизни и к миру.
Обращение к запискам выявляет одиночество и непонимание Пьера в среде русских эмигрантов, живущих в культурных и политических мифах и закрытых от большого мира. Записки - это реализация потребности в диалоге, и размышления героя о возможном адресате в первой части романа («У кого для чужих пережитостей и раздумий есть время, тот это, может быть, и перелистнет. Нет - пусть тут же отложит в сторону» (с. 48)) во второй части оформляются в образ «читателя записок моих» (с. 162). В хроникальной ситуации наррации постоянны сомнения в возможности овладеть искусством слова, утверждения, что его «живописный язык» разнообразнее, «богаче языка слов» (с. 33).
Герой-нарратор задается вопросами, как выстраивать композицию и вводить персонажей, как фиксировать персональный опыт, если, будучи живописцем, всегда изображал другого. Последнее для него особенно важно: как познать себя, посмотреть на себя «глазами другого» в словесном тексте? Пьер использует шаблонный прием «перед зеркалом», в котором Я видит себя глазами Другого. Кризис самоидентичности героя связан с нежеланием принимать старение как бесследное исчезновение из бытия: «В зеркальном простенке между двумя витринами - поношенная личность <...> личность отворачивается, чтобы не видеть лишний раз своего отражения в зеркале» (с. 60).
Записки Пьера не автобиография, поскольку не выстраивают сюжет его жизни как целого, а фиксируют лишь ее экзистенциально значимый отрезок. Пьер, с одной стороны, подчеркивает, что его тексты «не роман, но полудневник-полухроника. Сорок бочек пережитого и несколько горстей раздумий» (с. 48). С другой стороны, сюжет письма включает ситуацию перечитывания и переписывания записок, отбора, выстраивания композиции, а не только фиксирование «нагромождения неожиданностей, совпадений, смуты душевной» (с. 48), т. е. частное письмо героя приближается к творческому. Стремление к литературной форме объ- ясняется приверженностью к композиции в живописи. Литературная саморефлексия героя создает мистификацию, что он, а не автор выстраивает записки как художественное произведение, причем Пьер воспринимает его как повесть, распадающуюся по причине неумения выстроить сюжет, который «утекает, как вода из пригоршни, остаются лишь разрозненные события-пустяки» (с. 89).
Важный собеседник Пьера, ищущего форму и стратегию письма, – авторитетный Сергей Сергеич. В романе это носитель скептической оценки современной культуры, в том числе русской литературы в эмиграции, как преимущественно графомании, вырастающей из иллюзии исключительности и негативного жизненного опыта автора. Старая эмиграция, по его мнению, нетерпимая к новому, законсервировалась в дореволюционной культурной эпохе. Литература новой эмиграции, обращенная не к читателю, а к критикам, в стремлении к преодолению формы утратила и смыслы. В первоначальном совете Сергея Сергеича – писать не записки, а комментарии к собственным картинам – Пьер обнаруживает творческий принцип: фрагментарность, фиксирование эпизодов из своей внешней и внутренней жизни без обобщений и внешних сцеплений.
С другой стороны, Сергей Сергеич – носитель памяти жанра, содержательности формы классического романа, стремившегося к широкому охвату действительности, к созданию образа «всеобщей связи явлений»; другой его совет Пьеру – не распыляться в записках «по закоулочкам главной темы»: «куда движется Великая Русь – к возрождению духа или в дальнейшее безблагодатное ничто?» (с. 113). Пьер же не способен создать роман, выражающий его целостное видение мира, и пишет лишь повесть о «закоулочках» собственной души. Возникает противоречие между «повестью» героя и авторским определением «Дины» как романа, но именно в диалоге автора и героя-нарратора, в композиции сюжета, в интертекстуальном плане рождается романное сознание незавершимости человека и мира. Неудавшуюся, по признанию героя, повесть авторское сознание выводит к романному мирообразу.
Ведение записок не заменяет герою живопись, а дополняет ее, помогает ее рефлексировать, воспроизводит мышление живописца, воспринимающего мир в его тонких цветовых оттенках. Действительность и людей он воспринимает с точки зрения того, как их можно написать, какие цвета, техники и материалы использовать. Реальные пейзажи вызывают у героя аллюзии к картинам (например, американский провинциальный пейзаж – к картинам Мане Каца и др.). Записки позволяют ввести в роман экфрасисы чужих и собственных картин.
Сюжет творчества в романе включает и ситуации работы героя над живописными произведениями, и их авторефлексию. Проблема экфрасиса в «Дине» связана, во-первых, с тем, что сюжетно значимы немиметические автоэкфрасисы, т. е. описания картин Пьера им самим и другими персонажами. Л. Геллер считает: «Вымышленные картины надо придумать – часто такой вымысел подчиняется либо нарративной, либо топической, но не живописной логике» [Геллер, 2002, с. 9]. Во-вторых, поскольку герой переживает творческий кризис как живописец, чаще даны описания не завершенных им картин, а его набросков или замыслов, но представляется, что, воплощенные вербально, они тоже могут быть восприняты как эк-фрасисы.
Среди упоминаемых в романе живописных произведений Пьера наиболее важны его портреты Дины, фиксирующие и стремление разгадать ее, и изменения в восприятии женщины и живописной манере героя.
Первый автоэкфрасис приводит описание наброска лица Дины после первой встречи с ней героя, в котором угадывается ее главное свойство – скрытая энергия, вызов миру: «широко разведенные брови над зеленоватыми миндалинами глаз и тонкие ноздречки, надувающиеся порой, как микропаруса; в них – сдерживаемый до времени вызов» (с. 10). Второй портрет – «Рисовальщица» – изображает Дину, временно ставшую ученицей Пьера: «с кистью в руке перед огромным фарфоровым блюдом в цветной путанице разводов и клякс» (с. 22). С одной стороны, картина типична для героя: в ней нет движения. С другой – персонажи замечают изменение живописной манеры героя в изображении женщины – не прежние гротеск и иронию, а красоту, свидетельствующую об особом отношении к Дине.
Третий, незавершенный портрет Дины – «Победительница». Ржевский исследует весь процесс работы художника над картиной – от возникновения идеи будущего полотна до попыток ее воплощения, переписывания, поиска новых вариантов. Творческий импульс для создания картины – победа Дины в соревновании по прыжкам в бассейн с вышки – триумф молодости и воли над жизнью: «…она смущена. Но в зелени глаз – и это тоже для меня внове – что-то победительное; также и в поставе головы, и в том, как вздрагивают не в такт дыханию маленькие ноздри. Мне вдруг хочется написать ее такой» (с. 54–55).
Размышления Пьера над картиной доказывают наблюдение Сергея Сергеича о его романтической интенции к духовной вертикали: это должен быть не бытовой портрет, а выражение мирообраза героя-художника. Ключевым элементом композиции Пьер видит спираль как романтический символ бесконечности:
Я вижу ее на зеленоватом кафеле бассейна. Барьер, на котором она сидит, идет спиралью вверх. Непременно спиралью: спираль должна быть душою всей композиции. Невидимо, но ощутимо (как – это я должен еще решить) нижутся на эту спираль кольца и круги на воде, сплющенные, пересекающиеся, рваные, взлетающие к самому небу, голубые, оранжевые и фиолетовые... Все это – в тоже незримом кружении, словно взбитом гигантской мешалкой. И посреди этого кружения – счастливый и победительный покой маленького, хрупкого тела (с. 55–56).
Во всех вариантах «Победительницы» Пьер пытается выразить то, что невозможно выразить во фрагментарных записках – устремленность к небу и ощущение целостности мироздания, центром которого остается человек при понимании его малости и хрупкости.
Творческая коллизия героя при работе над «Победительницей» – невозможность соединить и выразить в картине «гармонию стремительности и торжествующего покоя» (с. 63). В поисках формы он как к образцам обращается к творчеству других художников:
Это – полярности, вроде, скажем, структурного треугольника «Купальщиц» Сезанна, где все стремится вверх, будто поддутое ветром, и стылых парабол Рублева. Мне маячила «beautiful line» Хогарта – нечто вроде вытянутого латинского ‘S’, дающее основополагающую вертикаль, но вышку пришлось убрать за трюизм – победительность молодости, здоровья, воли и обаяния требовали другого воплощения (с. 63– 64).
Упомянутые Пьером «Купальщицы» и их экфрастическое описание отсылают к серии картин Сезанна, начатой им в середине 1870-х гг., к «Большим купальщицам» (1898–1906), в основе композиции которых треугольник, образованный рекой и склоненными стволами деревьев, а большую часть картины занимает небо. Творческая история незавершенной «Победительницы» близка к «Большим купальщицам» – незавершенной картине Сезанна, которую он неоднократно переписывал. «Купальщицы», несмотря на внешнюю статику, наполнены динамикой и движением, которые ищет Пьер, композиция картины выражает единство человека и природы, к пониманию чего герой придет в другом варианте картины.
Обращение к параболическим линиям икон Рублева проявляет почти сакральное отношение Пьера к создаваемой картине. «Прекрасная линия», о которой упоминает Пьер, – это исследованная У. Хогартом в трактате «Анализ красоты» (1753) «S-образная» («змеевидная») линия, по его словам, воплощение тайны искусства, сочетание единства и многообразия, «потому что величайшее очарование и жизнь, какие только может иметь картина – это передача Движения» [Хогарт, 1987, с. 32]. В позах «Купальщиц» Сезанна нет «линии красоты», поэтому в стремлении соединить покой и движение Пьер обращается к поиску «s-образной» линии.
Работу над «Победительницей» прерывают новая эмиграция героя, утрата Дины и привычного уклада в Скандинавии; жизнь в динамичной Америке не наполняет его живопись движением, а, напротив, приводит к творческому кризису. Строгая симметрия городских улиц США напоминает герою кладбище. Завершение «Победительницы» невозможно для Пьера, потому что для творческой работы ему, в отличие от Сезанна при работе над «Ку- пальщицами» [Перрюшо, 1966, c. 201], нужен контакт с реальностью, с Диной, которую не подменишь воображением.
Мучительная сосредоточенность героя на картине прорывается в его подсознание, заставляет переводить живописный код в иные коды. В одном из снов Пьер занимается созданием скульптуры – памятника, изображающего «Победительницу» на братской могиле «друзей и близких» героя, «погибших в войну или замученных» (с. 115):
Модель все увеличивается по ходу работы – и вот я делаю статую уже в натуральный рост, сидящую на скалистом цоколе, как Лорелея. Потом долго и мучительно бьюсь над одним поворотом шеи и плеч, отраженным во всей композиции (с. 117).
Сон – это проявление внутреннего кризиса героя: с одной стороны, его любовь к осведомительнице КГБ – предательство памяти жертв террора и войны, с другой – их гибель будто компенсируется историческими изменениями Советской России, рождением нового поколения Дины, не причастного к кровавому прошлому. Герой сопоставляет Дину с Лорелеей, нимфой, увлекающей своим пением корабли на скалы, т. е. во сне он склоняется к идее гибельности любви к Дине (поэтому и во сне не заканчивает скульптуру, и в настоящем не может ее повторить).
Открытие природного мира провинциальной Америки примиряет Пьера с этим континентом и возвращает к живописи (пытается написать осенний пейзаж). На замысел влияет и полученное от Дины письмо: прежде воспринимавшая европейцев как бездушных «саламандр», она примиряется с западным миром, признает себя «побежденной». Новый вариант «Победительницы»:
Это пиршество цвета немыслимо передать, разве только – впечатление! <…> повторить в новой композиции тот сплав почти мистического движения и покоя, который, кажется, я когда-то нашел и который теперь нужно бы мне найти по-другому – в этой вот взлетающей к небу россыпи красок и недвижности камня, на котором легкая глыбка человеческого тела сквозила бы как коралл... (с. 138).
Важно признание невозможности передать на картине изменчивость и многокрасочность бытия, только выразить с помощью цвета впечатление (тяга к импрессионизму). Теперь Пьер хотел бы поместить «победительницу» в природное пространство, но не в центр композиции: в этом проявляется движение героя-художника к новому, не антропоцентрическому миропониманию: бесконечность бытия, в котором человек не «победитель», а не более чем элемент пейзажа, но при этом «глыбка». Можно увидеть приближение Пьера и к постимпрессионизму Сезанна, для которого человек в эпической шири мира – лишь сгусток материи, как и всё окружающее его, и одновременно «самая прочная точка опоры» [Перрюшо, 1966, с. 357].
Новый замысел и невозможность его воплощения лишь усиливают творческий кризис героя. Тем не менее размышления над «Победительницей» помогают ему сформулировать эстетическую позицию, которую можно воспринимать как выражение авторской позиции. Пьер отвергает модернизм как «искусство расколотого атома» (с. 91), разрушение целостных образов мира и человека, как формотворчество, уход от реальности в мир сознания. Поп-арт как позднейший вариант модернизма (постмодернизм), эстетизирующий вещный мир и ориентированный на человека-потребителя, создает лишь «анатомический театр», где мир разъят, а человеческий дух умерщвлен. Поэтому для героя «модернизм в своей бездуховности такое же антиискусство, как и социалистический реализм с его запретительной тенденцией» (с. 141), разрушающий свободу творца и искажающий реальность и правду жизни. Подлинное искусство, как замечает Сергей Сергеич, не копирование реальности, как «современная советская литература», «насквозь реалистическая и потому антихудожественная»; оно невозможно без «возвышающего обмана», «поправки на что-то дополнительное и неизъяснимое словом» (с. 158), видимое творцом сквозь эмпирический поток. Романтизм для Пьера – это скорее интенция к преодолению модернистского мирообраза, внутреннее движение к вертикали и стремление выразить скрытое единство бытия; в целом же он остается реалистом, эстетически утверждая первичность и сложность реальности.
Обретенная героем позиция подтверждается лишь созданием рисунка медсестры из больницы, где он оказался после автокатастрофы: «этюд с кореянки делаю я пастелью – безбожно было бы передавать углем эти оливки глаз, этот великолепного тепла колер кожи» (с. 147). Пьер не становится писателем, но остается художником, «позыв рисовать» приходит раньше выздоровления и будто возвращает витальные силы. Герой смог обнаружить и запечатлеть красоту в повседневности, подтвердив обладание талантом, но преодолеть материал и дистанцироваться от мучительной и ускользающей реальности при работе над картиной о любимой не смог. Эротическое разрушило эстетическое отношение, и наблюдения героя о Дине в последней главе романа свидетельствуют об отказе от создания большого полотна – остается лишь стремление сохранить память о Дине: «глаза стали больше, кожа прозрачней, и теперь я писал бы ее только акварелью, может быть – в медальон» (с. 152). Предполагаемая техника – акварель – это желание зафиксировать во внешних изменениях внутреннюю трансформацию Дины. Благодаря страданиям (потеря ребенка), общению с русскими эмигрантами, вхождению в высокую культуру и постепенному отбрасыванию советских идеологических штампов героиня проходит путь от советской женщины, осведомительницы КГБ, к женщине русской, духовной, к поиску (но не обретению) новой сверхличностной опоры в Боге.
Незавершенность Пьером «Победительницы», несмотря на возвращение к живописи, – это невозможность до конца разгадать женщину, которая у Ржевского остается тайной, и невозможность героя овладеть реальной Диной, несмотря на разрушение внешних препятствий: в финале, по-романному открытом, изображено примирение героев, но не соединение, а новое расставание. Незавершенность картины – это и невозможность выразить в пластической форме единство с миром, и приближение к Богу, которые герой на мгновение ощутил благодаря любви. Однако нереализованность живописных замыслов частично компенсируют записки, в которых зафиксированы разные варианты незаконченной картины, разные варианты приближения к пониманию бесконечности мироздания.
Итак, роман Л. Ржевского «Дина» представляет собой сложное взаимодействие вербального и визуального в художественном целом: «записки художника», овладевающего искусством слова, рефлексирующего процесс порождения текстов и создания картин, возмещающего в слове невоплотимость живописных замыслов. «Дина» – роман о судьбе искусства в постклассической культуре и выражение авторской эстетической позиции путем осмысления другого, изобразительного вида искусства: отвержение (пост)модернизма и социалистического реализма, равно искажающих реальность, и утверждение реализма ХХ в., возвращающегося к духовной вертикали и осознающего сложность и бесконечность бытия, в котором человек – не хозяин и не «победитель», а «коралл».