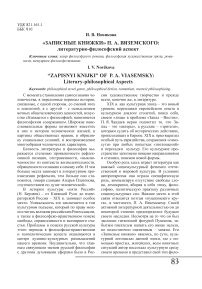«Записные книжки» П. А. Вяземского: литературно-философский аспект
Автор: Новикова Инна Валериевна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (21), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются записные книжки, дневники, путевые заметки П.А. Вяземского в контексте философской прозы, рассматривается новый жанр в литературе, культуре и философии – философский роман – автобиография.
Жанр философского романа, философская художественная проза, романизм, мемуарное философствование
Короткий адрес: https://sciup.org/14720742
IDR: 14720742 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи «Записные книжки» П. А. Вяземского: литературно-философский аспект
С момента становления самосознания человечества, в переломные периоды истории, связанные, с одной стороны, со сменой эпох и идеологий, а с другой – с осмыслением вечных общечеловеческих ценностей, искусство сближается с философией, наполняется философским содержанием. Широкие повествовательные формы позволяют вместить в них и истории человеческих жизней, и картины общественных нравов, и обрисовку социальных условий, и воспроизведение многообразия человеческих характеров.
Близость литературы и философии выражается степенью проявленности рефлексивной позиции, отстраненности, «выклю-ченности» из контекста жизнедеятельности, обращенности сознания к самому себе. И чем больше места занимает в литературном произведении рефлексия, тем больше оно становится, говоря словами Андрея Платонова, «путешествием по душе человеческой».
В истории культуры «пяти Россий» (Н. Бердяев) – от Киевской Руси до императорской России – XIX в. занимает особое место. Уникальность его заключается в том культурном подъеме, который по праву можно считать великим российским Ренессансом, а также в философско-нравственном поиске свободы, справедливости и всемирного счастья. Проблемы и поиски русской культуры этого периода в философско-нравственном и геополитическом аспекте оказываются в центре духовно-культурных размышлений нашего времени. Неудивительно, что главным связующим звеном русской философии с другими духовными сферами было в Рос- сии художественное творчество и прежде всего, конечно же, в литературе.
XIX в. как культурная эпоха – это новый уровень переплавки европейского опыта в культурном диалоге столетий, поиск себя, своего «лица» в проблеме «Запад – Восток». П. Я. Чаадаев верно подметил то, что Запад – это «актеры», а русские – «зрители», которым судить об исторических действиях, происходящих в Европе. XIX в. ярко выразил особый путь евразийства, сохранения «само-сути» при любых попытках «поглощений» и пересадки культур. Его культурное пространство заполнено новыми направлениями и стилями, поиском новой формы.
Особую роль здесь играет литература как важный социокультурный феномен отечественной и мировой культуры. В условиях авторитаризма она играла специфическую роль, компенсируя отсутствие свободы слова, демократии, вбирая в себя этику, философию, политическую практику различных социокультурных сил. Важное место в этой связи отводится поэтам «пушкинского круга», в частности, П. А. Вяземскому. Своей активной литературной деятельностью он до некоторой степени предопределил будущее своего наследия. Несмотря на то что он был заслонен гигантской фигурой Пушкина, забытым писателем назвать его никак нельзя, но недостаточно оцененным – можно. Его «Записные книжки» явились, по сути, культурной летописью данной эпохи, где с помощью простых, житейских, всем понятных ситуаций автор воссоздал культурную среду своего времени и представил свой тип фило- софствования, который является актуальным и на сегодняшний день.
Философское письмо – это особая форма объективации, текст произведения, открывающий пространство для чтения. «Философские произведения не доискиваются истины, а скорее пытаются воплотить, телесно выразить в своей структуре событие мысли, которое не нуждается ни в оправдании, ни в доказательстве. Принято считать, что философское произведение может быть осмысленно, понято, т. е. интерпретировано как совокупность мыслей, но не может быть прочитано как текст. Текстовое воплощение мысли оказывается выведенным за границы мысли. Философствовать – это значит мыслить в понятиях. Философские произведения следует не читать, а со-мыслить» [9, с. 110].
Стремление литературы философски осмыслить мир наилучшим образом выразилось в так называемой «философской литературе». Ю. В. Манн справедливо заметил, что «взаимоотношение философии и литературы определяется не наличием в литературе философской проблематики, а модусом ее существования в художественном тексте» [7, с. 105].
Одним из самых распространенных определений, которыми обычно награждают литературное произведение, служит указание на его «философичность» – «философская глубина», «философское проникновение», «философские обобщения» и т. п. Философия, философствование со своей стороны, хотя и не обнаруживают особенного стремления акцентировать литературные достоинства своих произведений, все же нередко строят их по канонам, отнюдь не чуждым литературе. Вместе с тем и писатели нередко оказываются включенными в философское сообщество, а их идеи – в общий процесс эволюции философской мысли. Таким образом, писатель и философ оказываются представителями одного и того же мира. Но, тем не менее, между философией и литературой существует большое различие. Ведь немало писателей философами вовсе не были и даже высказывали к ней враждебное отношение. К тому же есть философские тексты, написанные высокой прозой, но это нельзя считать нормой. И вместе с тем литературу и философию многое объединяет. Вспомним В. Г. Белинского: «Философ говорит силло- гизмами, а поэт – образами и картинами, а говорят одно и то же» [2, с. 171].
Что касается самого понятия «философская литература», «философская проза», то следует отметить, что это термин был впервые введен Н. И. Надеждиным, в 30-е гг. XIX в. Именно этот период является временем возникновения особого явления в русской литературе данного периода – философской художественной прозы как образа некоей действительности с качественно новыми принципами ценностного освоения бытия, сыгравшей важную роль в оформлении русского реализма.
Следует отметить, что эпоха возникновения «философской» прозы приходится на эпоху после декабря 1825 г., когда русское общественное сознание приобрело сугубо теоретический, философский характер, когда одновременно с формированием художественной прозы зародился феномен философской прозы. Именно в ней нашел отражение идущий в русском общественном сознании процесс «внутреннего освобождения» (А. И. Герцен). Предпосылками для формирования философской прозы является, с одной стороны, преимущественно философский характер идейных исканий русской общественной мысли 1830-х гг., а с другой – особая мыслительная направленность художественного самосознания многих писателей. Как отмечает Г. Д. Гачев, «в русской общественной жизни 1830-х гг. в силу ее исторической специфики художественное творчество становится самой универсальной, всеобъемлющей формой нации» [5, с. 145–146].
Русская литература XIX в. и русская культура в целом развивались под философским знаком, что в большей степени определяло особенности общекультурного развития этой эпохи. В русской культурной традиции второй половины 1820-х гг. и до начала 1840-х гг. существовал широкий круг литераторов, активно стремившихся к разработке философски содержательных форм, отчасти напоминающих художественные. В результате этого наряду с таким понятием в литературе, как «романтизм», появился термин «романизм». Этот термин особенно хорошо представлен в творчестве Вяземского разработкой теории романа и созданием характера романтического героя.
Что же касается литературной судьбы Вяземского, то она сложилась не блестяще. Его литературное наследие вряд ли можно назвать громадным. Но по любым меркам оно выглядит весьма внушительно. Двенадцать монументальных томов полного собрания сочинений далеко не исчерпывают им написанного, а тысячи писем, значительная часть которых предназначалась для широкого распространения, носила явно литературный характер, способны увеличить этот объем вдвое. Не являясь писателем, П. А. Вяземский, тем не менее, внес огромный вклад в русскую культуру XIX в., создав свои «Записные книжки», который по праву можно назвать романом – автобиографией самого писателя, эпохи, в которой он жил.
Сегодня автобиографии пишут практически все. Она нужна для поступления в вуз, на службу, в общественную или творческую организацию, для поездки за границу и т. п. В этом качестве автобиография – это своеобразный жанр деловой прозы, содержащей в себе минимум биографических данных, некую формализованную схему жизненного пути.
Действительно, трудно себе представить жизнь современного человека без хроногра-фирования важнейших событий, дат. Определенный механизм «памяти» является одним из важнейших столпов социокультурной динамики. Однако подлинный культурный статус и смысл именно автобиографии далеко не исчерпывается фиксацией и трансляцией некой информации о жизни одного человека или поколения. Автобиография сама по себе является совершенно уникальным и в то же время известным и популярным литературным жанром, который как специфический культурный феномен способен пролить свет на трансформирующееся бытие человека в культуре, и всегда подразумевает наличие особого текстового пространства и времени, своеобразных выразительных средств. Это позволяет избежать приписывания людям тотального «кризиса идентичности», а исследователю дает возможность увидеть то, как человеческое самосознание свидетельствует само о себе – без внешних посредников и интерпретаторов.
Феномен автобиографии является предметом специального изучения многих дис- циплин: лингвистики, литературоведения, социологии, психологии, культурологии, – но вскрытие глубинных антропокультурных смыслосимволов возможно только на пересечении самых разных гуманитарных дисциплин. Анализируя некоторые культурные явления, нельзя ограничиться только внутренними установками какой-то одной дисциплины, так как обращение к такому весьма своеобразному предмету, как автобиография, во многом зиждется на личном интересе к этому жанру.
Начало исследованию автобиографии как культурного феномена на уровне именно культурфилософии было положено в трудах таких ученых как Ю. М. Лотман, М. М. Бахтин, Л. М. Баткин, Ф. Знанецкий, которые рассматривали автобиографию как специфический культурный текст и как определенный текст автобиография выполняет существенные конститутивные функции. Любой жанр, и автобиография в особенности, есть «культурная форма», которая представляет собой «явленный способ ми-роотношения. Этот культурный формализм выражает собой некую «универсальную» сверхзадачу автобиографии – самовыделе-ние индивида в историческом пространстве-времени, «субстанциональным оправданием автобиографизма как такового» [1, с. 138– 139].
Многими учеными ставятся и решаются проблемы жанрового своеобразия автобиографии как особого повествования от первого лица; исследуются грамматические, стилистические и структурные особенности автобиографии как особого образования в системе письменной ментальности. «Если социально-антропологическое исследование описывает бытование и устойчивое действие ментальных установок, их системное наличие, то исследование культурологическое ищет в них же внутренние трудности и смысловые возможности, никогда вполне не совпадающие с тем, что закреплено социальной рутиной. Но каким образом? Через изучение казуса, который переводит матрицы цивилизационного сознания в состояние некоторой экспериментальности, неокончательности, колебания и, следовательно, дает нам известное представление об их динамических (собственно историче- ских?) характеристиках. Социал-антрополог обнаруживает: вот как это совершалось, работало в повторяющихся положениях. Вот ментальность как механизм социальной практики. Культуролог же пытается понять: как это могло совершаться и что в самом механизме обеспечивало его переиначивание, какую-то степень открытости, способность к развитию. Эти резервы самоизменения приводятся в движение в широком социальном масштабе, когда возникают стимулирующие внешние условия» [2, с. 271].
Уникальность жанра автобиографии представляет не просто какие-то всеобщие культурные структуры. Текст автобиогра-фиикристаллизует тот или иной исторически обусловленный тип конституирования субъективности, человеческого «Я», синтезируя конкретные индивидуальные характеристики в пространстве «жизненного мира». Однако, прежде чем судить таким образом, необходимо более обстоятельно разобраться в характерологических особенностях автобиографии как определенного жанра. Трудность состоит в выявлении таких качеств и свойств текста этого жанра, которые бы передавали смыслосимволическое содержание, позволяющее воплотить в предметном мире культуры своеобразную стихию самоутверждения и самоактуализации человеческого «Я».
Сам текст автобиографии являет миру такой опыт самосознания, который, и в этом мы глубоко убеждены, обнажает «большое время» самой культуры. В этом выражении М. М. Бахтина подчеркивается то особое измерение исторической ситуации, в котором различные хронотопические образования, традиции представлены не монологически (каждое в отдельности), а как сосуществующие разные лики «события человека» в историческом пространстве-времени.
Как отмечает М. М. Бахтин, наиболее зрелой формой является именно художественная автобиография. Именно она представляет собой, во-первых, автономный жанр литературы, во-вторых, и это самое главное в контексте нашего поиска, как определенный текст она есть факт самосознания личности автора, обнажающий не просто ситуацию са-мообращения «Я», но и сам процесс его конституирования, полагания в качестве целостного и уникального опыта. Ранним примером автобиографий именно в этом культурозначимом качестве являются «Письмо к потомкам» и «Моя тайна» Петрарки и «Жизнь Бенвенуто Челлини». Во многом ценность такой автобиографии определяется ее изначальной обращенностью к читателю. Сам этот жанр бытийствует в культуре только благодаря наличию читателя. Человек может писать дневник просто «в стол», но самосознание как текст всегда живет как встреча в культуре с Другим. Яркие примеры автобиографического жанра, сыгравшие фундаментальную роль в оформлении канонов этого жанра как специфической литературной деятельности: «Исповедь» Руссо и «Поэзия и правда» Гете, «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского и «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста и т. д.
Не последнюю роль здесь играет записная книжка, являющаяся для многих писателей постоянным спутником. В нее заносятся удачные мысли, наметки сюжета, впечатления о людях и событиях. Многие из этих записей впоследствии выльются в рассказы, повести и пьесы, другие дадут толчок к написанию больших романов. Записные книжки – это повествование о прошлом и настоящем, основанное на личном опыте и собственной памяти автора. Целевое назначение записных книжек заключается в стремлении личности запечатлеть для современников и потомства опыт своего участия в историческом бытии, осмыслить себя и свое место в нем. Но, так или иначе, это материалы для творческой лаборатории писателя, и значение их очень велико, так как сами авторы, как правило, неохотно говорят о своей работе либо уничтожают черновые рукописи. Вяземский – не исключение.
Еще в юности славился он своим остроумием, своими фантазиями и bons mots и впоследствии любил говорить, что истинная веселость существует не в письменной, а в устной русской литературе. Собирателем и хранителем этой устной литературы, устного предания пушкинской эпохи и стал Вяземский. Его записные книжки, дневники и воспоминания – живое свидетельство о времени, характеру и духу которого Вяземский оставался верен до конца жизни.
Записные книжки Вяземского – признанный историко-литературный памятник сво- ей эпохи, во многом отличающийся от прижизненных публикаций автора. По тексту книжек можно проследить, что и как читал Вяземский, какие мысли и события в прочитанных книгах его интересовали, какую оценку они вызывали у него, как преломлялись в его сознании факты и идеи западноевропейской жизни и как они соотносились им с жизнью русского общества и отечественной литературой.
До недавних пор записные книжки, тетради Вяземского привлекали внимание исследователей главным образом потому, что они содержат ценнейшие материалы творческой лаборатории поэта, которые дают возможность изучить историю создания его произведений. Но важен также и другой аспект изучения записных книжек как своеобразного повествовательного жанра – дневника, в котором представлены не только личные впечатления автора, но и сам процесс работы над произведением как часть духовной жизни автора, его философствования, глубоко отражающее личность автора.
Заполненные Вяземским в первой половине XIX в. записные книжки отразили все этапы современной ему политической и литературной жизни, а через нее – и прошлое русской и западной культуры. Вместе с тем в них отражена эволюция Вяземского-философа. Живой процесс идейных исканий поэта раскрывается в дневниковых записях, которые дают возможность полнее и конкретнее осознать связь его художественных замыслов со всей системой его социальнополитических и историко-философских воззрений.
Внимание Вяземского сосредоточено в сфере бытия, мысли, идей – это определяет философский характер его произведений, в частности, его «Записных книжек». В творчестве П. А. Вяземского записным книжкам принадлежит особое место. Своеобразие этих материалов – в разносторонности их содержания: они представляют собой и собственно записные книжки, дневники поэта, но прежде всего это художественное произведение – роман-автобиография. Данное произведение рассматривается нами как с точки зрения лингвистики, филологии, культурологии, так и с точки зрения философии. С позиций данного анализа записные книж- ки воспринимаются как «текст» культуры (М. М. Бахтин), как выражение «философского пробуждения», как новый жанр мемуарного философствования, как культурфи-лософская летопись XIX в. Мемуары – это литературное повествование участника общественной, политической, литературнохудожественной жизни о событиях, свидетелем или действующим лицом которых он был, о людях, с которыми он соприкасался. Мемуары являются разновидностью документальной литературы и в то же время одним из видов исповедальной прозы (автобиография, исповедь), примыкают к исторической прозе, очерку, биографии. Мемуары могут содержать воспоминания рядового человека о своей «обыкновенной» жизни, передавая аромат определенной эпохи, мысли, чувства, умонастроения и ожидания «средних» людей того или иного времени, того или иного социального, возрастного, психофизиологического или возрастного статуса. В этом плане мемуары относятся к жанрам, пограничным между собственно литературой и бытовыми письмами и дневниками, не рассчитанными на публикацию.
Текст – первичная данность и исходная точка всякой гуманитарной дисциплины. Поэтому текст представляется как язык автора, язык жанра, направления, эпохи, как национальный язык. По мнению М. М. Бахтина, потенциальным текстом может выступать и человеческий поступок, который может быть понят только в диалогическом контексте своего времени. «Записные книжки» Вяземского рассматриваются нами именно с этих позиций, так как в них наглядно представлен сложный творческий путь, процесс эволюции автора. В то же время записные книжки представляют нам концепцию автора, его философско-эстетическое мировоззрение, своеобразие его личности.
Сам Вяземский постоянно сравнивал себя с «термометром», так как обладал «талантом» быстро реагировать на все изменения, происходящие в обществе. Сам о себе он говорил так: «Я думаю мое дело – не действие, а ощущение. Меня должно держать как комнатный термометр, который не может ни нагреть, ни освежить покоя, но никто скорее и вернее не почувствует настоящей температуры» [4, с. 236]. Он чутко улавливал ма- лейшие колебания температуры в обществе и стремился выразить это в своем творчестве, которое раскрывает поведенческую специфику эпохи и является вкладом не только в отечественную, но и в мировую культуру.
Но «температура» настроения Вяземского бывала иногда такова, что выразить ее в письме, хотя бы и отправленном с оказией, было опасно не только для автора, но и для адресата. С этим Вяземский не мог не считаться, условия переписки часто препятствовали тому, чтобы возникшая потребность тотчас выразить свое отношение к услышанному или прочитанному могла быть немедленно удовлетворена. Этой цели гораздо лучше могла служить другая форма фиксирования колебаний «температуры» – записи в тетрадях, книжках, которые всегда были под рукой и оставались недоступными для чужого глаза, но при желании могли быть даны для ознакомления друзьям.
Вяземский начал вести записные книжки с 1813 г. и вел их до конца жизни. В его архиве сохранилось 38 книжек, чрезвычайно разнообразных по внешнему виду. Среди них и толстые книги, и тонкие тетради, маленькие карманные записные книжки, и тетради-альбомы, и календари-справочники. Разнообразие их внешнего вида соответствует пестроте их содержания.
Записные книжки Вяземского не были чем-то односоставным или однородным. Каждая из них «имела свою особую физиономию», свое особое назначение. Тексты записей оттачивались, дополнялись, подчас в той или иной мере пересматривались и группировались иначе, чем это было в начале. В процессе пользования книжки могли менять свое назначение. Это не застывший свод записей. Внимательное чтение позволяет уловить их скрытую динамику, движение, развитие и трансформацию.
Постепенно записные книжки стали неотъемлемой частью писательской работы Вяземского. Они последовательно отражали в сознании их автора русскую и, шире, европейскую культурную жизнь за 65 лет. Многообразие жанров, видов повествования, использования формы фрагментов – все это обеспечивает особую емкость контекстного уровня и позволило воссоздать широчайшую картину этой жизни. С другой стороны, книжки остаются неизменным источником сведений о внутренней и внешней биографии самого Вяземского, дневниками поэта.
Но между тем дневники и записные книжки при внешнем сходстве имеют массу различий. Для одних записи в книжках – важнейшее звено творческого процесса, а сами книжки – единственное место, куда помещаются дневниковые записи. Для других, в том числе и для Вяземского, записные книжки – «промежуточный» жанр. В них есть и дневниковые элементы, и творческие наброски, и теоретические размышления, и заготовки материала, и просто «разные» записи. Но в них отражена интенсивная работа мысли поэта, писателя, охватывающая проблемы социальные, политические, философские.
Сегодня «Записные книжки» Вяземского приобретают наибольшую актуальность. Комплексный философский анализ подобных материалов как феномена культурноисторической реальности открывает нетрадиционное осмысление данных произведений, раскрывает их культурологический, эстетический, философский, исторический аспект. Прочтение текстов П. А Вяземского возможно лишь на основе синтеза всех философско-литературоведческих подходов в изучаемых произведениях на основе историко-культурного подхода. Так, синтез как метод изучения предмета в его целостности и единстве становится главным при прочтении текстов писателя.
Исходя из историко-культурного подхода, можно осмыслить и пережить текст, только удерживая в себе полноту и целостность художественного бытия. Особенно это свойственно текстам П. А. Вяземского как воплотившим в себе мысли о русской культурной традиции. С опорой на отечественной миро-видение и мирочувствование можно выделить следующие аспекты в прочтении текстов Вяземского:
-
1. Рассмотрение текстов возможно на основе общечеловеческого подхода в истории и культуре.
-
2. Понимание и приятие текста как живущего, развертывающийся в своем времени и в своем пространстве.
-
3. Психологизм текстов из духовной вселенной самого автора реализуется в образах
как решение внутриличностного конфликта.
Подобная смена ракурса рассмотрения «Записных книжек», дневников Вяземского позволила открыть новый культурфилософ-ский контекст изучения данного произведения. Текст как некая реальность воплощает в себе все образы, мысли, чувства родной культуры. Все, что видел и воспринимал сам автор и на основе чего создавал свой художественный мир. Склонный к диалогическому мышлению, Вяземский воплощает в себе диалог культур. Его тексты – историкокультурное явление, воссоздающее психологические и диалогические стороны осмысления произведений П. А. Вяземского.
В последние годы наука активно ищет новые подходы к изучению его творчества. Следует отметить, что исследователи, которые обращались к этой теме, стремились лишь полно и всесторонне раскрыть литературоведческий аспект текстов автора. Читая биографические очерки и воспоминания Вяземского, его «Старую записную книжку», невольно задумываешься, кто он – мемуарист, историк, моралист, коллекционер анекдотов? Для мемуариста он не слишком концептуален; как историк он слишком мало внимания обращает на крупномасштабные события в государстве; как моралисту ему мешает любовь к частностям и исключениям. О П. А. Вяземском писалось много, и до сих пор споры между историками литературы, критиками и философами не прекращаются. Мемуарные тексты писателя уникальны многоаспектностью интерпретаций.
Мемуарная проза играет значительную роль в литературе. Пройдя долгий путь развития от древнеегипетских мемуарных записей, воспоминаний периода античности («Записки о Гальской войне» Ю. Цезаря, «Анабасис» Ксенофонта), Средневековья («История моих бедствий» Абеляра), Возрождения («Записки» Бенвенуто Челлини), сложившись как особое явление в XVII– XVIII вв., когда определились предмет и задачи мемуаристики, а создание мемуаров стало одной из тенденций словесности, мемуарная литература прочно удерживает свои позиции на протяжении двух последних столетий. Она видоизменяется, обогащается новыми возможностями творческой реализации своей основной задачи – воссоздать прошлое с точки зрения свидетеля и участника событий.
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы.
-
1. Русская литература XIX в., как и русская культура, развивавшаяся под философским знаком, во многом предопределила огромное значение философской проблематики и ее художественного воплощения (в частности, романе). Появление так называемой философской прозы дало возможность многим писателям реализовать свои эстетико-философские взгляды, представить свои концепции, идеи, мысли.
-
2. Видное место в контексте философской прозы первой половины XIX в. занимает П. А. Вяземский и его «Записные книжки», которые явились частью большого творческого цикла автора и представляют собой собрание иллюстраций, концептуальных соображений, портретов отдельных действующих лиц.
-
3. Основной темой «Записных книжек» является русский человек в его домашнем и общественном быту (термин Вяземского). При этом автор не составляет мертвый инвентарь бытовых деталей, а представляет человека в разных сферах быта, стремясь уловить, понять и описать поведенческую специфику данной эпохи и сохранить ее в памяти культуры посредством своих произведений, что и является основной чертой философствования Вяземского.
-
4. Вяземским создан новый жанр в литературе, выбрана новая форма, дающая право свободно размышлять об исторической, идейно-политической, литературной ситуации своего времени, не опасаясь цензуры, развивать свой слог, стиль, тип мышления.
-
5. Вяземский – целая эпоха в истории мировой культуры. Многие эстетикофилософские вопросы: проблема общественного назначения поэта, значение литературы для объединения народов в общую европейскую семью для создания будущих всеобщих взаимосвязи и взаимопонимания, поставленные им в «Записных книжках», определяют философский характер его произведений и являются актуальными и сегодня.
Список литературы «Записные книжки» П. А. Вяземского: литературно-философский аспект
- Боткин Л. М. Европейский человек наедине с собой/Л. М. Баткин. М., 2000. С. 138-139
- Белинский В. Г. Статьи, рецензии, заметки, февр. 1840 февр. 1841/В. Г. Белинский//Белинский В. Г. Собрание сочинений: в 9 т./редкол.: Н. К. Гей [и др.] М., 1978. Т. 3. С. 271
- Вяземский П. А. Записные книжки (1813-1848)/П. А. Вяземский. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1963.-507 с
- Вяземский П. А. Старая записная книжка/П. А. Вяземский. Л.: Изд. писателей, 1929. 346 с
- Гачев Г. Д. Жизнемысли/Г. Д. Гачев//Рос. провинция. 1994. -№ 3. -С. 145-146
- Знанецкий Ф. Мемуары как объект исследования/Ф. Знанецкий//Социол. исследования. -1995. -№ 4. С. 106-107
- Манн Ю. В. Литература и литературная критика в контексте философии обществознания/Ю. В. Манн//Вопр. философии. 1983. -№ 11. С. 105-110
- Урбан А. Художественная автобиография и документ/А. Урбан//Мемуар. обозрение. 1972. -№ 3. С. 197
- Подорога В. А. Метафизика ландшафта. Коммуникативные стратегии в философской культуре XIX-XX вв./В. А. Подорога. М.: Наука, 1993. 319 с