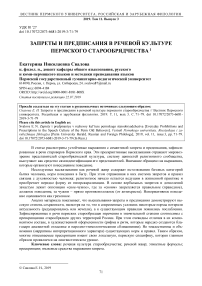Запреты и предписания в речевой культуре пермского старообрядчества
Автор: Свалова Екатерина Николаевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 т.11, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены устойчивые выражения с семантикой запрета и предписания, зафиксированные в речи староверов Пермского края. Эти прескриптивные высказывания отражают мировоззрение представителей старообрядческой культуры, систему ценностей религиозного сообщества, выступают как средство самоидентификации его представителей. Внимание обращено на выражения, которые организуют повседневное поведение. Исследуемые высказывания как речевой жанр содержат истолкования базовых категорий бытия человека, норм поведения в быту. При этом отраженная в них система запретов и правил связана с духовностью человека: религиозное начало остается ведущим в жизненной практике и приобретает нередко форму ее гиперсакрализации. В основе вербальных запретов и дозволений зачастую лежит оппозиция «свое-чужое», где за «своим» закрепляется правильное (праведное), должное поведение, за чужим - прямо противоположное (от антихриста). Ненормативное поведение оценивается как греховное. Анализ материала показывает, что высказывания-запреты и предписания демонстрируют высокую степень сохранности, несмотря на то, что в современных условиях некоторые нормы потеряли актуальность (редуцировались или исчезли), а к существующим правилам появились послабления. Зафиксированные в речи пермских старообрядцев изречения в значительной степени соотносимы с прескрипциями старообрядцев других территорий России. При этом очевидны отличия в их компонентном составе, в художественной оформленности (рифма и ритм, которые нередко создаются благодаря диалектной огласовке и народно-этимологическими сближениями). Не тождественны и объяснения (нарративы интерпретационного характера) существующих норм и правил. Таким образом, многие описываемые прескрипции имеют свою локальную, пермскую специфику, которая главным образом проявляется на лингвистическом уровне.
Речевая культура старообрядчества, речевой жанр, этикетные формулы, прескрипции, языковые средства выражения запрета
Короткий адрес: https://sciup.org/147226978
IDR: 147226978 | УДК: 81’27 | DOI: 10.17072/2073-6681-2019-3-71-79
Текст научной статьи Запреты и предписания в речевой культуре пермского старообрядчества
Запреты, являясь устойчивыми высказываниями о вере и обязанностях, представляют интерес для исследователей разных областей гуманитарного знания. Подобного рода вербальные пре-скрипции в традиционной культуре связаны с многовековым культурно-языковым опытом народа, поэтому в современных научных разысканиях они все чаще являются объектом изучения этнолингвистики, лингвокультурологии и фольклористики. Выявляя функцию запретов, ученые сходятся во мнении о том, что «подчинение» запрещающим выражениям делает жизнедеятельность этноса «нормативно стабильной» [Владыкина 1997: 241], а сам запрет интерпретируется как «форма ограничения прав и желаний, предупреждение и назидание во имя гармоничной жизнедеятельности» [Гайсина 2013: 12]. Заметим в связи с этим, что культура в целом представляет собой систему моральных запретов и табу (часто условных) и владение любыми ее формами требует отказов и ограничений.
Запреты, регламентирующие бытовое и обрядовое поведение, хозяйственную деятельность человека и сообщества, давно привлекает внимание исследователей. В российской этнографии и фольклористике первое более полное изучение запретов (и более строгих их форм – табу) выполнено на материале самых разных культур Д. К. Зелениным. Ученый в работе «Табу слов у народов Восточной Европы и Средней Азии» [Зеленин 1929] исследовал промысловые, скотоводческие и бытовые запреты и увидел во многих из них отраженность магических форм (в том числе магии слова). В наши дни интерес к запретам не ослабевает. Л. А. Абукаева в статье «Марийские запреты. К вопросу о природе и специфике» (2016) отметила высокую активность запретов в повседневной коммуникации марийского народа, включенность их в систему обрядов и ритуалов, тесную связь с суевериями. «Функция запретов, – пишет исследователь, – заключается в том, что они были призваны подчеркнуть почтительное отношение к объектам поклонения. Их соблюдение должно было обеспечить покровительство высших сил, безопасность и благополучие рода и семьи, а также отдельного человека» [Абукаева 2016: 82]. Л. А. Абукаевой выделены разные классы запретов: запреты культового характера, запреты утилитарно-практического (бытового) характера. Говоря о функционировании запретов, Л. А. Абукаева подчеркивает, что запреты различаются не только по содержанию и функции, но и по особенностям использования: они обладают различной степенью строгости выполнения» [там же: 83]. Запреты в фольклоре башкир рассмотрены в диссертации Ф. Ф. Гайсиной «Запреты как фольклорный жанр в традиционной культуре башкир» (2013). Как считает исследователь, их происхождение связано с почитанием природы, сфер животного и птичьего мира, небесных тел и природных стихий. Запреты башкир, как и многих других народов, «являются первичной формой социального, правового регулирования жизнедеятельности отдельных индивидов и социума», представляя собой фольклорный жанр в традиционной культуре башкир, имеют «синтетический характер, требующий изучения их в языковом, философском и правовом ракурсах» [Гайсина 2014: 4].
В языковом плане запреты рассматриваются как один из речевых жанров (или микрожанров), имеющий свою специфику [Руссинова 2006, Иванова 2014, Назари 2011]. К примеру, Фатеме Назари указывает, что запреты имеют как императивное, так и неимперативное выражение [Назари 2011: 684], что семантика запрета в русском языке обеспечивается использованием специальных операторов отрицания (частица не , слово нельзя , которое выражает абсолютную невозможность совершить какое-либо действие). Среди лексико-синтаксических средств чаще всего запрет выражают предложения с обобщенным значением, в которых глагольные предикаты имеют «всевременное» значение, а имя субъекта выступает как обобщающее [Иванова 2014: 84]. Трансформацию значений компонентов запретов Н. В. Иванова иллюстрирует старообрядческим правилом: Ты можешь войти в другой храм, но ты не молишься вместе с ними; в высказывании подлежащее выражено местоимением 2-го лица единственного числа ты с семантикой потенциально-конкретного лица. По семантике это отнесенное к сфере будущего волеизъявление говорящего, опирающееся на авторитет традиции, выражающее обобщенный коллективный опыт нескольких поколений носителей старообрядческой культуры. «Ответа» на высказанный запрет ждут не на словесном уровне, а на уровне действий.
Исследователями отмечается образование запретов по модели параллелизма («мир реальный – мир потусторонний»), по модели противопоставления, на основе символизации или олицетворения [Абукаева 2016]. В целом же в кругу других устойчивых сочетаний запреты не обладают выраженной структурной стабильной оформленностью, несмотря на то, что их семантика устойчива. Еще одна черта единиц, относящихся с данному жанру, проявляется в том, в большинстве своем они не отличаются художественной оформленностью, в отличие, например, от пословиц и поговорок. В паремиях также закреплены нормы поведения, ср. о грехе «перего- варивать» у верующих, т. е. много говорить: умный молчит, а глупый ворчит; приведенный рифмованный пример хорошо иллюстрирует стилистическую обработанность пословиц. Элементы художественной обработки очевидны в запретах, содержащих игру слова (Чай от Бога отчаивает о запрете пить так называемый «фамильный», т. е. привозной чай из листов чайного куста), звуковую инструментовку, рифму (Кто курит табáки, тот хуже собаки о грехе курения; Что лайко, что зайко о запрете есть зайчатину).
Запреты обеспечивают нормативно стабильное и гармоничное существование, выражают свою систему ценностей, правил, обычаев, норм, которая «служит основой конфессиональной и культурной идентичности староверов» [Иванова 2014: 74]. Формирование специфического поведения носителей старой веры продиктовано главным образом их стремлением к определенной изоляции от инокультурной среды, а запреты в основном связаны с духовными ориентирами личности, даже если они касаются быта и повседневности. Связь эта объясняется тем, что в практической деятельности сильнó религиозное начало: человек ощущает потребность постоянного присутствия Бога, его волеизъявления, соучастия в ежедневном своем существовании. Этот жанр в культуре пермского старообрядчества (разных его согласий и толков) фиксируется давно. В нашей статье рассмотрены запреты, опубликованные архимандритом Палладием [Архимандрит Палладий 1863], активно используются этнолингвистические и фольклорные материалы экспедиций 2004–2019 гг. филологов Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета в районы проживания старообрядцев.
Запреты и предписания функционируют в повседневной и обрядовой коммуникации, поэтому этот жанр логично рассматривать в обрядовом и бытовом проявлении. Подобным образом описан речевой этикет старообрядцев Эстонии (см.: [Морозова, Новиков 2007, Паликова 2010]). В то же время граница между этими видами коммуникации достаточно условна в традиционной культуре вообще. В среде старообрядцев быт еще в большей степени ритуализирован, поэтому многие предметы, явления и действия сакрали-зуются, возникающие запреты и предписания осмысляются как непреложные истины и исполняются с истовостью верующего человека. Повседневное не осмысляется как противопоставленное исключительному, оно также имеет вечный смысл, раскрываемый во Христе, отсюда так называемая сверхсакрализация жизни (быта) в мировоззрении и культуре повседневности старовера, четкое следование выработанным прави- лам и нормам поведения, бытовой консерватизм. Если цель соблюдения запретов в обычной жизни – предупреждение угрожающих жизни и благополучию событий и состояний, то многие старообрядческие запреты направлены на предотвращение греха, греховного поведения. Так, хорошо известный мужской запрет бриться воспринимается просто как суеверие (напр., Мужчине перед рыбалкой не следует бриться, улова не будет), которое восходит к архаическому представлению о концентрации в волосах и бороде жизненной силы. У старообрядцев же бра-добритие считалось серьезным грехом, его воспринимали как «поругание образа Божия». Подобное отношение к бороде отражено в пословицах и поговорках: Борода не вреда, глазам замена (о сакральной ценности бороды, увеличивающей согласно народным представлениям физические способности человека); Без бороды не мужик; Без бороды в Царство небесное не пустят (У меня папа бороду не носит, но сейчас говорит: «Пора уже бороду отращивать, а то как без бороды хоронить будут» ‒ Лысьва), в пренебрежительной характеристике никонианина скоблёно рыло. Близким по смыслу является старообрядческий запрет стричь волосы, делать прическу женщинам (Нельзя волосы не то что стричь, завивать нельзя – Лысьва). Нарушение запретов обычно исправляется чтением молитв (Молитву надо творить, а то я измирщилась, съездила в сельсовет на автобусе – с. Сепыч, Верещагинский район; измирщи́ться – приобщиться к миру, к тем, кто вне согласия). В традиционной культуре избавление от опасных последствий нарушения достигается чаще всего мерами магического характера (вербальными и/или невербальными). Так, нарушение запрета на пожелание удачи у рыбаков «нейтрализуется» бранью в адрес пожелавшего.
В настоящей статье мы остановимся на бытовых запретах в речевой культуре староверов Пермского края. Речь идет о запрещениях, касающихся поведения в быту. Отметим, что многие запрещения (впрочем, как и дозволения) универсальны для старообрядчества в принципе, но оформлены нередко так, что имеют свою региональную специфику. Пермский языковой материал в этом смысле вписывается в широкую картину речевой культуры русских староверов, но при этом демонстрирует степень сохранности тех или иных запретов и предписаний, отношение к ним (способы интерпретации, в частности) и некоторые особенности их лингвистического оформления на конкретной территории, например, использование местной диалектной лексики и фразеологии. Так, в контексте запрета на использование вилок (« Мы вилками не пользуемся »
– Лысьва) отмечено слово вúлошно : название блюда, которое необходимо есть вилкой (например, пельмени, холодец). Запрет известен и в православной среде, но касается исключительно поминального стола. В отдельных территориях Прикамья вúлошным старообрядцы угощают гостей в обрученье, перед свадьбой (с. Григорьевское, Нытвенский район). В наши дни отмеченная традиция практически утрачена.
В отличие от общеязыковых запретов, в качестве основного оператора отрицания при выражении запрета используются слова грех ( Мы не ели зайцев, грех есть зайцев – Лысьва) , грешно, погрешно (Соль голыми руками не хватайте, только ложечкой. Очень погрешно – д. Буры-лово, Кишертский район; Записываться на ма-тифон грешно, голос после меня наверху останется – Усть-Уролка Чердынский район); выражения не по вере, вера не велит ( Зайца грешно по нашей вере есть – В.-Язьва Красновишерский район).
Несмотря на близость запретов в повседневной и обрядовой среде, следует, на наш взгляд, рассматривать отдельно выражения, не связанные с конкретным обрядом, соотнесенным с собственно религиозным событием или культовым действием, и бытовые запреты сугубо утилитарно-практического характера. Так, обрядовый запрет плясать на Пасху связан с необходимостью отказа от мирской суеты и всего плотского во время празднуемой встречи с Воскресшим: На Пасху делали качели, плясать-то грешно. На качелях пели: Пасха священная нам днесь пока-зася, Пасха святая, Пасха всечестная, Пасха Христос избавитель (д. Антипина, Красновишерский район). Отметим также, что разграничение бытовых и культовых запретов не всегда возможно: по словам М. О. Шахова, «бытовой консерватизм старообрядчества основывается на религиозном традиционализме» [Шахов 2000]. Поэтому среди бытовых мы рассматриваем прежде всего пищевые запреты и те, которые связаны с обыденной жизнью человека (физические действия, уход за собой, контакт с современными техническими новшествами).
Пищевые запреты
В группе бытовых запретов бóльшую часть образуют так называемые застольные и пищевые запреты, которые могут быть связаны с конкретным продуктом питания, со способом приготовления блюда или напитка и особенностями их употребления. В эту группу входят и этикетные выражения (чаще это предписания), которые так или иначе связаны с ситуациями употребления пищи (Е. С. Бойко называет их актом трапезно-вания [Бойко 2012]). На основе представления о том, что обеденный стол – это «Божья ладонь», а пища соответственно Божье подаяние, формулируется запрет на употребление пищи вне стола: «От стола до стола никто не кусóшничал, раньше было» (с. Култаево, Пермский район). Выражение иллюстрирует представление о том, что еда «вне стола» не воспринимается Божьей, поэтому не несет в себе пользы для человека. Само обозначение «вне стола» возможно интерпретировать и как период, не связанный с регламентированным временем для трапезы, и как употребление пищи (пользование чужой посудой) вне собственного дома, у чужих людей: «А вот у нас сваты приезжали с Сибири. Он у нас не пил, не ел. Сходил на ключик, там воду взял. Мы говорим: ну как это, хоть поешь чё-нибудь. «А чё мне охота сорок лестовок отмаливаться»? Сорок лестовок ему за то, что поест где-то. Ак вот он и воздерживался. Ему нигде ни попить, ни поесть в чужом месте» (Лысьва). Как и в ряде других территорий России, пермские староверы, называя стол престолом, не стелют на него клеенку (ср.: На клиёнке грех ись, ну в ёй резина: она не чиста. Надо застилать только льниную скатерть. Только лён чистай [Бойко 2012: 241].
Известный запрет не оставлять стол без солонки – свидетельство восприятия соли как высокосакрального продукта. В традиционных культурах соль – символ вечности и исключительной ценности, в практическом плане в разнообразных формах применяется как оберег. В высказываниях Кто мачет яйцо в солонку, тот в дружбе с бесями (с. Григорьевское, Нытвенский район; ср. распространенное Соль рассыпается – бес улыбается ); В солонку ни пальцем, ни яйцем отражен запрет рассыпать соль, в том числе с отсылкой к образу опрокинутой Иудой на Тайной вечере солонки. Еще одно правило старообрядческого застольного этикета – Не брать соль из солонки щепёткой : сложенные вместе три перста никониан-православных называются щепёткой, шéпетью . Таким образом, воспроизведение чуждого троеперстного крестного знамения уподоблялось старообрядцами святотатству. Еще один пример запрета с солью – невозможность в застолье о недосоленной пище сказать «без соли»: « “Без соли” нельзя говорить, когда едят. Выходит слово «бес», чтоб он солил. Надо говорить “недосол” » (с. Фоки, Чайковский район).
Среди других правил приема пищи значима оппозиция «день – ночь». Фиксируются запреты на трапезу в ночное время (Ночью хлеб спит), в том числе и питье воды (С постели ставши не пить по почам [Архимандрит Палладий 1863: 194]). Отметим, что в ночное время запрещены любые действия с водой: она тоже «спит» (Грех набирать воду ночью). Безусловно, в такого рода запретах ощущается «анимистическая подкладка» [Зеленин 1929: 56], древнее почитание воды как величайшей духовной ценности. Запрет на трапезу в ночное время реализуется в требовании не оставлять пищу открытой: «Нельзя посуду незакрытой на ночь оставлять. Не положено по-нашему. Ну, у нас не положено. Мы всегда всё закрывам, посуду опрокидывам» (Лысьва). Закрывание пищи, сосуда с напитком является предписанием-правилом для человека и считается преградой для нечистой силы: «Надо хотя бы палочку сверху положить, чтобы бес не выкупался, ноги свои не ополоскал» (В.-Язьва, Красновишерский район), аналогично вода в доме, которая оставалась на ночь незакрытой, считается опасной для человека.
Многие пищевые правила связаны и с запретом на конкретные продукты питания. Устойчив запрет на употребление в пищу мяса зайца. Кроме общей оценки «грех, грешно», «не дозволено», староверы предлагают различные объяснения запрета. По одной из версий есть зайца нельзя, потому что он рождается слепым и без шёрстного покрова: « Мы не ели зайцев, грех есть зайцев – потому что зайцы рождаются слепые и голые. Хоть птица, хоть животное родится в таком виде, не положено его есть. Это ещё Моисей закон дал, и потом у нас это укоренилось. Так Бог велел » (с. Меча, Кишертский район). По другой версии, запрет на зайца обусловлен внешней схожестью его с собакой: Что зайко – что лайко (Лысьва; в содержащей запрет поговорке использовано характерное для говоров называние животного по свойственному для него действию и диалектное же оформление средним родом). Но не только соотнесение по внешним физическим признакам в представлении староверов «роднит» собаку и зайца. Подчеркивается и тождественность их «функций»: собака, которая принадлежит хозяину-человеку и служит ему, одновременно считается и нечистым животным, и одним из воплощений черта; заяц подчиняется хозяину леса (« Зайца грешно по нашей вере есть. Заяц это лешева собака, у его и лапы собачьи » – с. В.-Язьва, Красновишерский район), его мясо « вызывает похоть ». Фиксируется и прямо противоположное объяснение запрета, связанное с позитивным восприятием зайца: В Библии написано, что зайца нельзя есть, записано, он когтистый, а которые говорят, он Исуса Христа спас. Когда за Иисусом гонялись, он превратился в ребёнка. Зайца спросили: «Где Исус»? Заяц де ответил: «Сосчитайте, у меня на самом кончике ушка чёрные волосики есть. Когда эти волосики сосчитаете, я вам скажу, где Исус».
Они начали считать, а заяц нет-нет, да и тряхнёт головой, они сосчитать-то и не могут » (с. В.-Язьва, Красновишерский район).
Частично фиксируется в Пермском крае старообрядческий запрет на пельмени: Пельмени в обычные дни не дозволены были (д. Усть-Уролка, Чердынский район). Возможное объяснение его заключается в особом восприятии пельменей соседями-коми-пермяками преимущественно как обрядовой пищи, прикрепленной к поминальным обрядам: По кругу угошшают: один человек подаёт вино красное или водку, а другой пельмяни. Пельмяни сварят и горячими пельменями всех угощают. По одному пельмешку все берут. Если в пост умер, то из грибов, а если в мясной период, то из мяса (Капилино, Юсьвинский район). Традиция до последнего времени жива на севере: В поминки на девять дней три перемены надо было делать. Три раза пельмени раньше подавали – кислые, мясные, грибные (д. Усть-Уролка, Чердынский район). Отмеченная традиция закрепилась в коми-пермяцком соотнесении пельменей со смертью (ср. в примете: Пельняннез – ку ӧ м , букв. ‘Пельмени – к смерти снятся’). Блюдо известно и как «профетическое» средство и используется в гаданиях на судьбу (в Новый год, на именинах, крестинах стряпают пельмени с символически значимой начинкой). Наконец, пельменями «лечили» больных порчей ( Перед тем, как больную с икотой накормили пельменями, порча у нее еще ругалась, матькалась: «Вы что, хотите меня накормить пельменями ?» (д. Антипина, Красновишерский район). Ощутимы отголоски восприятия пельменей как ритуальной пищи и в русской речи Прикамья: в говорах сохраняется застольные шутливые побуждения выпить при начале угощения пельменями На пельмени-то пьётся , Пельмень по воду ходил (п. Юго-Камский, Пермский район). Ассоциации пельменей с «нерусским» и явно языческим блюдом могли лечь в основу отмеченного запрета использовать их в повседневном быту.
Повсеместно распространены у староверов запреты на продукты, воспринимаемые как поздно появившиеся в России, завезенные: чай, кофе, картофель, сахар. Мотивация такого рода запретов достаточно подробно описана разными авторами, поэтому мы остановимся лишь на некоторых пермских контекстах, которые интересны в лингвистическом отношении.
Негативное отношение к картофелю выражалось в неприличных его номинациях в старое время: собачьи яйца, собачьи муде́. На использование продукта накладывался строгий запрет (то же во многих других территориях обитания старообрядцев (см.: [Волкова 1994: 78]). Отголоски запрета видны в сохраняющейся его характери- стике поросячья еда (с. Кын, Лысьвенский район). В речи пожилых еще встречаются рассказы о том, что из картошки вырастет собака (Бабушка мне говорила, посади картовку в гряду, поливай ее, и потом у тебя из нее станет черная собака ‒ д. Пож, Юрлинский район). Распространенное в Прикамье в прошлом старообрядческое отношение к картофелю как к нечистому, «нерусскому» овощу постепенно исчезло, но некоторое время сохранялось в отдельных обрядовых запретах (На поминки старообрядцы не готовили ни шанег, ни пирогов с картофелем. Говорили раньше – в картовке чёрт прячется» – с. Калинино, Кунгурский район). Примерно так же в наши дни меняется отношение к бананам: Один тут бананы купил. А старик-то говорит: «Поросячью еду берёте?» – «А ты чё-но картошку заготовляшь, не поросячью что ли? Картошка-та тоже поросячья еда» (д. Антипина, Красновишерский район).
Запрет пить фамильный (по другим названиям китайский, турецкий ) чай ( Кто пьёт чай тот отчаянный человек [Архимандрит Палладий 1863: 152]) отражает крайне значимое для носителей старой веры качество – сдержанность и миролюбие (о чем красноречиво говорит предписание Нельзя ставать на молитву, если с кем не ладишь : « Нельзя ставать на молитву, если с кем ле не ладишь. А како худо быват, когда уми-рам в ссоре – кто там нас отмолит? Утром поссорился, к вечеру помирись – так ране говорили » [Дронова 2014: 18]). Другой запрет на чай Чай от Бога отчаивает мотивирован лингвистически – отмечает потерю надежды для любителя чая на Бога (в соответствии с этимологией глагола, образованного от старого чаять ждать). В народных преданиях о чае растение связывается со смертью Христа: Когда Исуса распяли, было затмение, а чай и табак расцвели. Вот поэтому чай пить и табак курить – грех (с. Меча, Кишертский район). До наших дней вместо чая от чайного куста старообрядцы пьют горный (из собранных на возвышенностях трав), копорский (приготовленный из Иван-чая) чай, травник из листьев смородины. Самовар уже не называют шипучая змея ( медный зверь, нечистый дух – с. Фоки, Чайковский район), хотя еще и помнят эти характеристики; постепенно отношение к чаю в старообрядческой среде изменилось (примерно с 60-х гг. ХХ в.).
Жесткие ограничения употребления спиртного содержит запрет Пиво, вино и брага – ярость змеиная [Архимандрит Палладий 1863: 194]. У современных старообрядцев нет жесткого табу на употребление алкоголя (В старых книгах упоминается, только не водка называлась, а ра-кия, значит, можно – с. Кын, Лысьвенский рай- он; ср. мотивировка отступления от правила у русских староверов Латвии: «Рюмку не грех. Ести ж писано: «Была свадьба. Ну, и не хватило, водки было мало. Ну, и как раз Исус Христос шёл. Ну, и ему: “С воды сделай водку!” Ну, и вот люди все пили и веселилися. Только нельзя до безумия напиваться. Ну, первая рюмка – на здоровье, вторая – на веселье, а третья – уже на безумие» [Иванова 2014: 77]). При этом в речи отмечается большое количество разрешительных высказываний, содержащих ограничения в спиртном: Первая для здоровья, другая для ве-сельства, третья для пагубы души (п. Рассо-ленки, Лысьвенский район); Если выпить одну чарку (кружку), то это не является грехом, а вторая идет на гулянье, третья на блуд (д. Горбуново, Пермский район).
Отмеченные пищевые запреты частью восходят к древним ветхозаветным правилам, которые были усвоены с принятием христианства (в том числе так называемый Моисеев закон, см. о запретах на зайчатину: [Кабакова 2015: 172]), частью являются отголосками языческих культов тотемных животных, мотивированы тем, что относятся к чужим, имеющим неизвестные свойства продуктам.
Запреты, связанные с обыденной жизнью
Запрещения на поведение человека в быту крайне разнотемны и касаются эмоционального и трудового поведения ( Грех смеяться в пятницу, Грех работать в праздник – праздничная работа в путь не идёт ), отношения к своей внешности ( Нельзя стричь ногти в воскресенье , Грех красить брови ), пользования многими предметами поздней или чужой культуры ( Грех смотреться в зеркало, Грешно фотографироваться, Грех носить одежду с нерусскими буквами ). Есть темы, для которых выработано большое количество запретов. Таков запрет на курение. Если запрет на употребление спиртного в старообрядчестве не является жестким, то курение находится под строжайшим запретом: Табак хуже водки по алкогольности (с. Кын, Лысьвенский район). Запрет выражен в массе выражений: Кто курит, тот Бога от себя ту́рит (от диалектного турúть гнать, выгонять; известен и вариант Кто табак курит – Святого Духа из себя ту́рит ), Курить – грех, табачники – аду приказчики (д. Б.Бизь, Лысьвенский район), Кто курит табáки, тот хуже собаки (Пермь). Обоснованием запрета являются народные рассказы о табаке как «противнике» Христа: Табак нельзя курить. Когда Исуса Христа на распятьё вели, по табаку его вели, и он ноги ему все сплел. И Исус его проклял. Очень погрешно табак курить. А пить – немножко-то можно пить, не до блаженья.
Можно для веселья, кости чтобы раскрепостились (д. Осинцево, Кишертский район).
Строго относятся носители веры к особому вниманию человека к своей внешности: Золото нельзя носить – молнию притягает. Считается грехом прокалывать уши – на том свете будет змий за мочку сосать (д. Осинцево, Кишертский район). Устойчив в связи с этим запрет женщине подстригать волосы: Нельзя волосы не то что стричь, завивать нельзя. Косы когда чешешь, собирай, в гроб потом положат. Ангелам надо волосы-то, они их будут искать. А как ангел их их заберет? Поморцы волосы и ногти не собирают, хотя и не разбрасывают, сжигают в печке, говоря, что там ангелы найдут. А наши часовенные боятся, что ангелы крылья опалят (Лысьва).
В запретах отражено и особое отношение старообрядцев к бане. Следующий фрагмент раскрывает целый набор правил поведения в бане: Баня поганая. Потому что там садишься голый. Надо приходить из бани, обязательно умывать из умывальника водой лицо. В баню обязательно с крестиком ходить. Можно и в рот его взять, чтоб, как считается, поганым не быть. И не положено снимать крест-то. На крест можно лить воду. На поганое ведро, как тетка все говорила, есть молитва, а на банное ведро нет молитвы. Воду в бане пить нельзя, тоже поганая. В баню можно ходить, кроме воскресенья. В пятницу, субботу, субботу только до вечерней, говорят, можно ходить (Лысьва).
Непростым является отношение к фотографированию. В основном современные носители веры относятся к этому процессу терпимо, но наиболее «истовые» старообрядцы либо определяют особые условия для возможности его осуществления ( Фотографироваться можно, только если встанешь на сено или солому – д. Усть-Уролка, Чердынский район), либо отказываются фотографироваться. Распространено следующее объяснение запрета: При крещении человек получает невидимое сияние вокруг головы, которое после кончины будет служить ему пропуском в рай. Этого сияния стает все меньше при каждом греховном деянии, а фотоаппарат когда работает, его ловит и забирает (Лысьва). Типичны следующие комментарии в адрес фотографа: Вот ты меня поймал в свое стеколышко, я теперь слепнуть буду (Лысьва), Чикнул меня, и с меня ведь кожу обдерёт (с. В.Язьва, Красно-вищерский район). Аналогично отдельными носителями традиции воспринимается как грех запись на магнитофон: Записываться на матифон грешно, я вот умру, а голос после меня наверху останется, болтаться где-то будет (д. Усть-Уролка, Чердынский район).
Строгих правил в современном старообрядчестве, как находящейся в упадке культуре, становится все меньше. В связи с этим многие верующие избирают для себя послабления (ср. отношение к запрету смотреть телевизор: Грешно конечно телевизор смотреть. Дак а поп-от на что? Пусть берёт грехи на себя – д. Антипина, Красновишерский район, где сохраняется беглопоповское согласие). Нередко возникают разного рода трансформации старых норм. Так, в совместной работе на поле две женщины, старообрядка и мирская, вынуждены есть из одной чашки, но чтобы символически избежать «помешки», перегораживают ее на две части: Посереди блюда положишь ножик или палочку, чтобы каждая ела со своей стороны (д. Калиновка, Еловский район). Менее жесткое современное отношение старообрядцев к нормам, отступление от старых запретов связано и с философским отношением к понятию грех: по старообрядческой пословице, Одни грехи смываешь, другие собираешь (п. Сыпучи, Красновишерский район).
Рассмотренные бытовые запреты в большинстве случаев имеют выраженный религиозный смысл и служат для сохранения чистоты веры, выступают как каноническая, сакральная ценность. Запреты направлены на предотвращение греха, греховного поведения и одновременно являются важной составной частью коммуникативной культуры старообрядчества, служат для ее носителей ориентирами самоидентификации. Исследование запретов и предписаний позволяет полнее раскрыть принятое в современных работах понимание старообрядчества как лингвокультурной общности, выявить изменения в исторически сложившихся нормах и правилах общения, увидеть очевидную связь конфессии с русской диалектной лингвокультурой в целом. Неверно было бы рассматривать их как фанатичный пережиток прошлого; в текстах запретов отражен духовный опыт многих поколений носителей веры.
EVERYDAY PROHIBITIONS AND PRESCRIPTIONS
Associate Professor in the Department of General Linguistics,
Russian and Komi-Permyak Languages and Methods of Teaching Languages
Perm State Humanitarian-Pedagogical University
Список литературы Запреты и предписания в речевой культуре пермского старообрядчества
- Абукаева Л. А. Марийские запреты: к вопросу о природе и специфике // Вестник Марийского государственного университета. 2016. № 1(21). С. 82-86.
- Бойко Е. С. Коммуникативное поведение староверов в акте трапезования // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. Филология. 2012. № 1(19). С. 240-243.
- Владыкина Т. Г. Поверья в системе этносоциальной регламентации // Удмуртский фольклор: проблемы жанровой эволюции и систематики. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, 1997. С. 249-279.
- Волкова Т. Ф. Повести и легенды о табаке в контексте мифопоэтических представлений о смерти // Смерть как феномен культуры. Сыктывкар, 1994. С. 75-95.
- Гайсина Ф. Ф. Запреты как фольклорный жанр в традиционной культуре башкир: автореф. дис. … канд. филол. наук. Казань, 2013. 27 с.
- Дронова Т. И. Тематический словарь пословиц, поговорок и присловий Усть-Цильмы / авт.сост. Т. И. Дронова. Сыктывкар: Коми научный центр УрО РАН. 2014. 167 с.
- Зеленин Д. К. Табу слов у народов Восточной Европы и Средней Азии. Ч. II. Л., 1929. 165 с.
- Иванова Н. В. Запреты и предписания староверов Латгалии // Научный диалог. 2014. № 4(28): Филология. С. 74-87.
- Кабакова Г. И. Пищевые запреты восточных славян и их обоснование. Категория оценки и система ценностей в языке и культуре / отв. ред. С. М. Толстая. М.: Индрик, 2015. С. 167-186.
- Морозова Н., Новиков Ю. Чудное Причудье: Фольклор староверов Эстонии. Тарту: HUMA, 2007. 336 с.
- Назари Ф. Способы выражения запрета в русском языке // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2011. № 6(2). С. 684-686.
- Архимандрит Палладий. Обозрение пермского раскола, так называемого «старообрядства» / Палладий Пьянков. СПб.: тип. Духовнаго журн. «Странник», 1863. 47 с.
- Паликова О. Н. Этикет в речи старообрядцев и в словаре говора // Лексический атлас русских народных говоров: материалы и исследования. 2010. СПб., 2010. С. 424-434.
- Руссинова Т. В. Особенности функционирования запрета: На материале русского и английского языков: автореф. дис. … канд. филол. наук. Саратов: Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского, 2006. 21 с.
- Шахов М. О. Старообрядческое мировоззрение: Религиозно-философские основы и отношение к обществу: автореф. дис. … д-ра филос. наук. М., 2000. 51 с. URL: https://vivaldi.nlr.ru/bd000226299/view (дата обращения: 01.17.2019).