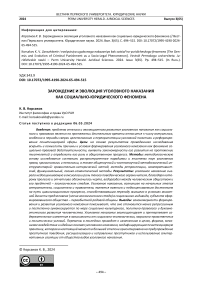Зарождение и эволюция уголовного наказания как социально-юридического феномена
Автор: Корсаков К.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 3 (65), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение: проблема генезиса и эволюционного развития уголовного наказания как социального и правового явления на протяжении длительного времени относится к числу актуальных, особенно в периоды сверки целеполагания и переориентации уголовной политики и реформирования пенитенциарной сферы.
Уголовное наказание, правогенез, древнее общество, социогенез, общественные регуляторы, пенология, юридическая антропология, пенитенциарная практика, правовое развитие, аксиология уголовного права, охрана общественных отношений
Короткий адрес: https://sciup.org/147246097
IDR: 147246097 | УДК: 343.9 | DOI: 10.17072/1995-4190-2024-65-494-515
Текст научной статьи Зарождение и эволюция уголовного наказания как социально-юридического феномена
Тщательная научная реконструкция генезиса и формирования уголовного наказания как правового института и части системы социального регулирова‐ ния имеет важное значение как для пенологической науки и уголовного права, так и для современной юриспруденции в целом, так как эту проблематику до сих пор отличают широкая дискуссионность, противо‐ речивость имеющихся воззрений и непреодоленные пробелы в изучении, осложняющие верное, непред‐ взятое постижение и объективную научную оценку уголовного наказания как многогранного и эволюцио‐ нирующего социально‐правового феномена: его исто‐ ков, оснований, предназначения, сущности, целей, ориентиров и перспектив дальнейшего развития.
Во многих научно‐исследовательских работах, посвященных вопросам пенологии, публичного права и истории человечества, предпринимались попытки поиска и фиксации времени возникновения и начала использования уголовного наказания, что осуще‐ ствить, безусловно, непросто. В частности, Ф. Баггл приходил к выводу о том, что «…с большой степенью вероятности можно утверждать, что с библейских уче‐ ний начинается период наказания» [68, p. 25], однако это утверждение не совсем корректно: так, например, такой вид наказания, как лапидация (забрасывание камнями) широко применялся в среде семитских племен еще в языческие времена, задолго до появ‐ ления библейских учений (именно от этого древнего наказания Иисус Христос спас женщину, обвиненную в прелюбодеянии, сказав фарисеям и книжникам:
«Кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Евангелие от Иоанна: 8.2‐11), а крайне важная для развития института наказания формула – запечатлен‐ ный в Ветхом Завете (Книга Исход: 21.23‐25, Книга Ле‐ вит: 24.19‐20) закон (принцип, правило) талиона – су‐ ществовала у кочевых западносемитских племен амо‐ реев (аморитов, сутиев) в начале II тыс. до н. э. Именно в это время они вторглись в Междуречье и завоевали Вавилон, привнеся в Месопотамию свои древние пра‐ вовые обычаи, которые позже нашли отражение в за‐ конах царя Хаммурапи, включая принцип талиона, не‐ известный до прибытия завоевателей – западных се‐ митов – народам Древнего Двуречья (убайдцам, шу‐ мерам, аккадцам и др.).
Генезис уголовного наказания
Современные археологические исследования дают ценный и уникальный материал о возникнове‐ нии первых форм карательной практики и свидетель‐ ствуют о том, что наказание имеет тысячелетнюю ис‐ торию своего применения. В частности, в 2012 году во Франции возле эльзасского города Бергхайм была обнаружена яма, наполненная человеческими ко‐ стями: в ней лежали скелеты людей разного пола и возраста (включая младенца не старше 1 года и под‐ ростка 12–15 лет) с отрубленными руками. Эксперты установили, что это останки праиндоевропейцев и им не менее 6 тыс. лет, а руки были отрублены топором либо ножом сильными и выверенными ударами. Часть французских ученых предполагает, что нанесен‐ ные повреждения были причинены не в бою и не в связи с каким‐либо ритуалом жертвоприношения или же медицинским вмешательством, а являлись след‐ ствием намеренного и подчиняющегося определен‐ ной логике наказания в рамках «коллективной формы ответственности» [67, p. 91]. Схожие причиненные с использованием оружия насильственные поврежде‐ ния были обнаружены археологами на человеческих останках, датируемых эпохой позднего палеолита и мезолита (10 тыс. – 5 тыс. лет до н. э.), в разных частях Земли [11, с. 311–312].
Конечно, прообразы, зачатки уголовного наказа‐ ния и его эмбриональные, первоначальные формы возникли не в одночасье и не на tabula rasa. Им пред‐ шествовали реакции на какие‐либо вредоносные и опасные действия, проистекающие из врожденной формы поведения живых существ – инстинкта самосо‐ хранения, акты рефлекторного (бессознательного) ха‐ рактера на внешние раздражители: нападки, угрозы, посягательства, которые мы можем наблюдать и у подчиняющихся инстинктам высших животных: они также преследуют, умерщвляют и изгоняют из своих стад особей, являющихся по каким‐то причинам ис‐ точником опасности, вреда, боли, страха. Такие акты в среде животных, несомненно, нельзя признавать наказанием, так как оно – рассудочное явление, воз‐ можное при определенном развитии интеллекта и присущее только человеческому общежитию, хотя есть исследователи, которые считали иначе: так, немецкий цивилист Г. Данкварт утверждал, что нака‐ зание «мы встречаем еще в мире животных, из коих каждому присуща наклонность разрушения; реакция возбужденного инстинкта разрушения над вызвав‐ шею его причиною и образует наказание, которое мы называем отмщением» [8, с. 39].
Однако первообраз наказания формируется лишь тогда, когда эти ответные, ретроспективные и реактивные действия начинают носить сознательный и публичный характер, когда, помимо отплаты, от‐ мщения начинают быть направленными на то, чтобы обезопасить и уберечь себя от повторного зла. Как пи‐ сал об уголовном наказании А. Ф. Кистяковский, «оно есть плод присущих человеку первобытных свойств, а не изобретено путем философской мысли; оно вы‐ звано к жизни самыми элементарными, самыми пер‐ вичными потребностями и целями человеческой при‐ роды. Конечная цель наказания, от первого момента его появления и до наших дней, была и есть одна и та же… Цель эта есть: самосохранение» [27, с. 696–697].
Подчеркнем, что данное назначение уголовного наказания продолжает сохраняться и в современном обществе, которое до сих пор обеспечивает свое со‐ хранение путем активного использования и перма‐ нентного совершенствования института уголовного наказания, и в этом отношении нельзя не признать правоту И. М. Мацкевича, заметившего, что «борьба общества с преступностью сродни борьбе добра со злом. Она вечна. Может быть, лишь в этой борьбе про‐ веряется готовность общества к выживанию в совре‐ менном мире» [37, с. 415] Несмотря на многие исто‐ рические, культурные, духовно‐религиозное, нацио‐ нальные и социально‐экономические различия и осо‐ бенности, оказывающие влияние на уголовно‐право‐ вую и пенитенциарную системы разных стран и наро‐ дов, тысячелетняя правовая история человечества в целом предстает перед нами именно как непрерыв‐ ная и решительная борьба за самосохранение, при‐ чем в отдельные периоды истории во имя спасения себя общество в этой борьбе использовало самые же‐ стокие, бескомпромиссные и кровавые способы.
Помимо осознанного характера, отличающего их от защитного поведения животных, важной трансфор‐ мирующей чертой таких возмездных акций и поступ‐ ков, изначально носивших характер частной, неорга‐ низованной и стохастической мести, является публич‐ ность (коллективность). После долгих рассуждений и раздумий по этому вопросу профессор Ришельевского лицея В. А. Линовский сформулировал краткий, про‐ стой и одновременно очень удачный тезис, указываю‐ щий на эту сторону рассматриваемых нами сложных социальных явлений: «Возмездие, употребленное против нарушителя самим обиженным, называется местью; если же оно совершено обществом, то полу‐ чает название наказания» [35, c. 87]. Примечательно, что в языках многих народов древности уголовное наказание и месть назывались одним и тем же сло‐ вом, например, у древних римлян уголовное наказание обозначалось словом “vindicta” – «месть» [38, с. 7].
Публичность таких ретроспективных акций, по‐ мимо внешней стороны – осуществления их «всем ми‐ ром», сообща, по воле всей общины – имеет «внут‐ реннюю» сторону, которая также очень важна: эти ка‐ рательные действия осуществлялись по причине исхо‐ дящей от нарушений опасности, которая постепенно начала осознаваться (поначалу полуинстинктивно, расплывчато) не только каким‐либо конкретным по‐ терпевшим, а всеми общинниками, то есть в архаиче‐ ском социуме появились первые, полубессознатель‐ ные и неразвитые коллективные представления об общей угрозе, о вредоносности нарушений и посяга‐ тельств для всех его членов, о том, что в современном уголовном праве называется общественной опасно‐ стью преступления .
Следует определить и осмыслить, что придало исходящим из глубин инстинктов, беспорядочным ин‐ дивидуальным актам мщения публичный и регуляр‐ ный характер, превратило их в наказание от имени всего формирующегося социума – первобытной об‐ щины, сообщества древних (архаических) людей. Су‐ ществование в условиях эволюционирующих перво‐ бытных коллективов на заре цивилизации было не‐ возможно без нарушений чьих‐либо интересов, без конфликтных ситуаций как внутри таких сообществ, так и по большей части между ними; эти конфликтные ситуации относятся к разряду витальных и естествен‐ ных обстоятельств, которые С. С. Алексеев, разрабаты‐ вая вопрос о генезисе права, назвал «правовыми ситу‐ ациями», то есть ситуациями, «требующими для сво‐ его решения права»: это, писал он, «есть исходный пункт права, ˂…˃ с этого «начала начал» в мире права все начинается» [2, с. 28, 39]. Повторяемость и распро‐ странение таких ситуаций в развивающихся и посте‐ пенно вступающих в социальную жизнь общностях формировала ощущающуюся всеми общинниками потребность в совместном реагировании на них, в проявлении общей воли, основанной на механиче‐ ской (примитивной) солидарности и всеобщем равен‐ стве в условиях стихийного (природного) коллекти‐ визма и эгалитарности; насущная и осознанная необ‐ ходимость в их коллективном разрешении привела к образованию наказания в истории человеческой ци‐ вилизации.
Угрожающие и наносящие вред первобытным сообществам нарушения, лежащие в основе ситуаций конфликта, могли быть самыми разными (это и укло‐ нение от участия в общих военных акциях (обороне, нападении) в отношении чужих враждебных коллек‐ тивов, и отказ от участия в совместной охоте, и неже‐ лание делиться добычей с сородичами, и похищение женщин, и оскорбление религиозных чувств (извест‐ ный исследователь религии С. А. Токарев считал, что зачаточные религиозные верования существовали уже у неандертальцев [44, с. 93]) и мн. др.), но их вполне можно назвать преступлениями, как это де‐ лали ученые, представляющие разные эпохи развития пенологической мысли, в частности, Н. С. Таганцев, пи‐ савший: «жизнь всех народов свидетельствует нам, что всегда и везде совершались и совершаются дея‐ ния, по разным основаниям не только признаваемые недозволенными, но и вызывающие известные меры…» [52, c. 1], генеральный прокурор ГДР и кри‐ минолог Й. Штрайт, указавший, что «сколько помнит себя человечество, всегда отдельные люди или группы людей нарушали правила…» [64, с. 17], и Э. А. Поздняков, отметивший, что «преступность ро‐ дилась вместе с человеком» и «она присуща только человеку как homo sapiens» [46, с. 11].
Нельзя не уточнить, что большая часть предста‐ вителей советской уголовно‐правовой теории, во многом опираясь на работы основоположников марк‐ сизма‐ленинизма, полагала, что преступность и нака‐ зание возникли с появлением государства, разделе‐ нием общества на классы и образованием частной собственности: так, например, И. И. Карпец в своем фундаментальном труде «Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы» писал: «Преступность как социальное явление есть порожде‐ ние общественных отношений, обусловленных рас‐ слоением общества на антагонистические классы, воз‐ никновением государства и частной собственности на средства производства» [23, с. 9], однако современ‐ ные отечественные криминологи и пенологи, основы‐ ваясь на данных антропологической, археологиче‐ ской, социологической и этнологической наук, счи‐ тают иначе: в частности, Ю. М. Антонян пишет, что пре‐ ступность – это непреходящее явление и «преступле‐ ния совершались постоянно, даже во время перво‐ бытного общества и на этапах его перехода к иным формациям…» [4, с. 122], Х. Д. Аликперов также фор‐ мулирует вывод о том, что «наказание было известно и при первобытнообщинном строе» [3, с. 40].
Уголовное наказание было порождено не столько жизненной потребностью, сколько социаль‐ ной необходимостью, и вполне естественно, что ради сохранения себя люди эпохи архаики использовали самые жестокие, беспощадные и дикие в понимании современного человека методы. «У дикарей жесто‐ кость есть средство борьбы и обеспечения себя... Же‐ стокость у дикарей, по условиям их быта, играет роль обыкновенного средства в борьбе за существование», – констатировал Л. Е. Владимиров [12, с. 146]. Однако, по нашему мнению, нельзя не согласиться с Н. Рула‐ ном в том, что все эти жестокие, безжалостные и кро‐ вожадные меры преследовали важную в социальном отношении и оправдывающую их цель: они были направлены «не на то, чтобы разрушить жизнь, а больше на то, чтобы заставить уважать ее» [50, с. 174].
Любопытны мысли Ч. Беккариа о справедливо‐ сти как связи частных интересов, наказании и дообще‐ ственном состоянии человека: «Под справедливостью я понимаю не что иное, как связь, необходимую для объединения частных интересов, без которой вос‐ становилось бы прежнее внеобщественное состоя‐ ние (курсив наш. – К. К.). Всякое наказание, не вызыва‐ емое необходимостью сохранить эту связь, неспра‐ ведливо по своей природе» [7, с. 91]. Небезынтересен и тот факт, что как в момент своего появления на заре человеческой цивилизации, так и в современном нам обществе преступление прежде всего воспринима‐ ется как антиобщественное и общественно опасное явление, стимулами которого выступают личные, ин‐ дивидуальные потребности и нужды, а основными «сдерживателями» – социальные факторы, одним из которых является наказание.
Наказание как инструмент борьбы социального с биологическим в процессе становления человече‐ ского общества, как выражение коллективной воли, обладающее имманентным ему устрашающим (пре‐ вентивным, дрессирующим) эффектом, сдерживаю‐ щее и обуздывающее проявления животной агрессии, эгоизма, произвола, нарушающего коллективную со‐ лидарность и спаянность зоологического индивидуа‐ лизма, культа силы, присущего сообществам живот‐ ных и высших приматов, сыграло недооцениваемую в аксиологии роль такого поведенческого ограничи‐ теля, благодаря которому пролегла и отчетливо, яв‐ ственно обозначилась черта, водораздел между чело‐ веческим обществом и его предтечей – зоологиче‐ ским стадом. Именно поэтому уголовное наказание, возникшее на начальных этапах антропогенеза, со‐ циогенеза и правогенеза, следует считать важным до‐ стоянием на пути цивилизационного прогресса, спо‐ собствовавшим переходу жившего в условиях живот‐ ной дикости предчеловека – члена зоологического стада в социального индивида, субъекта сформиро‐ вавшегося общества – первобытной родовой общины (коммуны), поставившего заложенные природой ин‐ стинкты на сознательную основу и осуществляющего деятельность по своему жизнеобеспечению в соци‐ ально организованных формах. Прогрессивная роль уголовного наказания в эволюции человека, в станов‐ лении общественной жизни и складывании общече‐ ловеческой культуры позволяет ставить его в ряд важ‐ нейших и наиболее ценных социально‐культурных феноменов.
Наши выводы во многом согласуются с антропо‐ логическими концепциями образования человека со‐ временного типа XX–XXI вв., в частности, с взглядами известного антрополога Я. Я. Рогинского и теорией Б. Ф. Поршнева, изложенной в трактате «О начале че‐ ловеческой истории (проблемы палеопсихологии)» [47] и объясняющей формирование человека совре‐ менного типа межиндивидуальными отношениями и появлением языка как особой сигнальной системы, призванной пресечь либо предотвратить потенци‐ ально опасные действия врагов, а также отличать «своих» и «чужих».
Следует уточнить, что переходной формой между зоологическим стадом предлюдей и первобытной родовой общиной в науке традиционно считается первобытное человеческое стадо. По мнению специ‐ алистов в сфере первобытности Ю. В. Бромлея, В. Р. Кабо, Г. Д. С. Мэйна, А. И. Першица и Ю. И. Семе‐ нова и др. [40, с. 11–52], на данном этапе первобытно‐ общинной формации ограничиваются внутрилинид‐ жевый промискуитет, инцест как форма инбридинга (инцухта), каннибализм, убийства членов своего кол‐ лектива, появляется система табу и наряду с ней обра‐ зуются обеспечиваемые санкциями первые позитив‐ ные нормы поведения. Однако существуют и противо‐ положные взгляды: так, согласно точке зрения В. П. Алексеева и разделяющего ее Э. В. Георгиев‐ ского, «отсутствие коллективного мозга в первобыт‐ ном стаде со всей очевидность свидетельствует и об отсутствии общественных санкций, применяемых к лицам, осуществляющим различного рода посяга‐ тельства» [13, с. 54].
Выделяя три этапа эволюции института наказа‐ ния в первобытном социуме (эпоху кровнородствен‐ ной общины, период позднеродовой общины и фазу позднепервобытной общины), А. А. Шепталин добав‐ ляет, что «до неолитической эволюции институт нака‐ зания развивался в рамках мононорматики, вклю‐ чавшей в себя нерасщепленные морально‐этиче‐ ские, религиозные и правовые нормы» [63, с. 170]. Мы не можем согласиться с такой точкой зрения, так как теория мононорматики (неотдифференцирован‐ ности, индискретного сочленения, слитности и не‐ различимости в первобытном обществе правовых, религиозных и нравственных норм), разработанная историком и этнографом А. И. Першицем, была не только опровергнута многими учеными‐правове‐ дами, включая С. С. Алексеева, обратившего внима‐ ние на то, что явление «мононорматики» характерно и для современной системы социального регулиро‐ вания, императивы которой часто объединяют в себе и религиозные, и моральные, и правовые предписа‐ ния (являются таковыми одновременно) [1, с. 26], но и сам А. И. Першиц признал неверной свою теорию в части расщепления мононорм лишь в классовом об‐ ществе, указав, что публичное право оформилось уже в эпоху позднепервобытной общины [29, с. 28]. Также следует иметь в виду, что у теории мононор‐ матики существуют – обосновывавшиеся видными антропологами, этнологами, социологами и истори‐ ками – достойные альтернативы: Э. Дюркгейм и Г. Оппенгеймер характеризовали первобытную нор‐ мативную систему как религиозную, а религию счи‐ тали самым первым социальным явлением, из кото‐ рого лишь впоследствии выделились право и мораль, Б. Малиновский доказывал, что нормы первобытных общин были по своей сути правовыми, а С. А. Токарев называл первобытную систему норм моралью, и именно она, по его мнению, была первым социаль‐ ным регулятором, от которого затем отпочковалось право [42, с. 80; 75, p. 613–622]. Мы же полагаем, что абсолютная синкретичность тут невозможна, а рассуждающий о неразрывном единстве в «моно‐ норме» проявлений юридического, религиозного и морального тем самым уже подразумевает и презю‐ мирует социальное бытие таких проявлений, и нет нужды доказывать их существование в единой «моно‐ норме» на основании сопоставимости последних с со‐ временными общественными регуляторами – пра‐ вом, моралью и религией, зародышами и зачатками которых они выступают. Подчеркнем, что первые со‐ циальные нормы преимущественно обеспечивались не моральными (силой общественного мнения, чув‐ ством стыда или угрызениями совести) и религиоз‐ ными санкциями (хотя компонент сакрального, куль‐ тового в них, безусловно, присутствовал), а строгими и суровыми публичными (протоправовыми) санкциями в виде наказаний, что хорошо прослеживается на при‐ мере института табу.
Именно наказание на начальных фазисах своего развития обеспечивало одну из первых нормативных систем, известных человечеству, – табуитет (термин «табу» был взят учеными из полинезийского языка, в котором это слово означает «отмеченный», «выде‐ ленный» и используется в рамках особой системы за‐ претов (интердикций), обнаруженной в 1771 году у жителей островов Полинезии членами экспедиции Д. Кука). Неотъемлемыми элементами табуитета яв‐ ляются страх перед неизбежным возмездием, карой за совершение запрещенных (табуированных) дей‐ ствий и вера в то, что нарушение самых строгих и важных табу неизбежно навлечет кару не только на самого нарушителя, но и на всю общину; в силу этого, стремясь обезопасить себя, община чаще всего стре‐ милась отторгнуть, отсечь от себя нарушителя, уда‐ лить его из своих рядов и наложить запрет (табу) на общение и всяческие контакты с ним. В отсутствие сложившейся и зрелой нормативной системы мо‐ рали (нравственности) именно страх перед неотвра‐ тимой карой, наказанием обеспечивал и стимулиро‐ вал социально одобряемое (позитивное) поведение и формировал мировоззренческие установки на по‐ слушание, соблюдение самых первых поведенче‐ ских норм.
Глубоко изучивший табуитет с позиций своей психологической теории З. Фрейд писал, что «первые системы наказания человечества связаны с наруше‐ нием табу», «кто преступил табу, сам благодаря этому стал табу» [57, с. 40], то есть превратился в пре‐ ступника, отщепенца, изгоя. Табуирование преступ‐ ника обусловливает возникновение одного из пер‐ вых видов наказания – изгнания из социума (об‐ щины). Подчеркнем, что это не лишенная логики и меры и не произвольная расправа, а упорядоченная форма воздействия на нарушителей запретов, зара‐ нее определенная общественная санкция, знание и понимание сути которой (изгнание человека из перво‐ бытного коллектива в ту пору обрекало его на верную гибель) останавливали индивидов от совершения запрещенных действий. Этот древнейший пенитенци‐ арный шаблон подтверждает мнение Г. В. Мальцева о том, что «на первоначальных этапах развития челове‐ ческого общества, когда существовали простейшие и примитивные формы социальной организации во взаимоотношениях членов первобытной общины, уже отмечались определенные регулярность и поря‐ док» [36, с. 19]. На раннее начало процессов регла‐ ментации и упорядочивания сферы уголовных нака‐ заний обращал внимание и А. Ф. Кистяковский: «Вместе с зарождением обществ начинается ограни‐ чение или качественное уменьшение смертных каз‐ ней: область уголовного права отделяется от обла‐ сти права войны, устанавливаются правила, запре‐ щающие казнить без различия, словом, вводится известная система и известная правильность» [25, с. 267]. При этом следует учитывать, что в периоды существования как раннепервобытной, так и позд‐ непервобытной общин, естественно, еще не было выработано ни единой и упорядоченной системы карательных санкций, ни фиксированной шкалы наказаний, контур и черты которых начинают фор‐ мироваться с появлением потестарных (вождества, конунгства и пр.) и государственных образований.
Важным при анализе древних социальных прак‐ тик изгнания (удаления) является то обстоятельство, что преступивший закон сам объявлялся вне закона: изгнанника мог безнаказанно убить каждый при встрече с ним, изгой (впоследствии в истории уголов‐ ного права разных народов получавший различные наименования: bannitus, caput lupinum, exilic, vogelfrei и пр.) лишался защиты и покровительства со стороны своей общины и права быть отомщенным в случае его убийства или ранения: ставя преступника вне обще‐ ственной защиты, вне своего жизненного уклада, кол‐ лектив изгонял его из своей среды [32, с. 49; 58, с. 98– 102]. К рассмотрению изгнания как формы обществен‐ ной репрессии прибегал Ф. Ницше, писавший про из‐ гнанного преступника: «…гнев общины снова возвра‐ щает его в дикое и внезаконное состояние, от кото‐ рого он был доселе защищен: община исторгает его из себя и теперь он открыт всем видам враждебных дей‐ ствий» [41. с. 274], а Р. Р. Черри «провозглашение на собрании… приговора о поставлении вне закона (outlawry)» [60, с. 23] называл предтечей уголовного процесса. Уголовно‐правовой институт изгнания (уда‐ ления) преступника, принимавший по мере развития и трансформации разнообразные формы (поток, абречество, высылка, остракизм, херем, банниция, проскрипции, релегация, ссылка и др.), существовал в арсенале пенитенциарных средств многих государств мира на протяжении тысячелетий и продолжает ис‐ пользоваться в настоящее время.
Другой не менее древней формой наказания, возникшей в период родоплеменного строя, была кровная месть, к изучению которой обращались не только ученые‐пенологи и правоведы, но и многие ан‐ тропологи, социологи, историки и этнологи (Ф. Боас,
Л. Леви‐Брюль, К. Леви‐Стросс, Л. Морган, М. Мосс, А. Радклифф‐Браун, Э. Тайлор, Д. Фрэзер и др.). Именно с появлением кровной мести в правовой ис‐ тории человечества видный советский теоретик права Е. Б. Пашуканис связывал происхождение уголовного права [45, с. 160], а о древности обычая кровной мести Л. Г. Морган писал: «преступление убийством так же древне, как и человеческое общество, и наказание за него в порядке мести кровных родственников так же древне, как и само преступление» [39, с. 46–47].
Кровомщение является межсоциорным явле‐ нием, оно невозможно внутри родового коллектива и выступает частью системы коллективной ответствен‐ ности, когда за проступок одного человека отвечают его кровные родственники [21, с. 214]. Иные его спе‐ цифические особенности заключаются в том, что оно строго не регламентировано и не знает границ, часто не соизмеряется с нанесенным преступником вредом (за насилие в виде ранения, истязания, похищения и т. д. может последовать убийство), направлено не только против самого виновного, но и против любых представителей его семьи (рода, клана). С другой же стороны, кровная месть выступает элементом слож‐ ного механизма коллективной борьбы за самосохра‐ нение: нанесенный вследствие преступного посяга‐ тельства вред нарушает паритет, изменяет соотноше‐ ние сил и ослабляет общину, в которой ее безопас‐ ность и безопасность каждого отдельного ее члена не‐ отделимы, а безнаказанность и безответность вызы‐ вают новые, опасные для кровнородственной общно‐ сти, враждебные акции, которые могут привести к ее истреблению и исчезновению. Именно поэтому кров‐ ная месть – это не столько правомочие потерпевшей стороны, сколько ее обязанность, и уклонение от та‐ ковой считалось большим позором, проявлением сла‐ бости и бесчестья: «кто не мстит за тяжкую обиду, ему или членам его семьи причиненную, тот признается позорным, оскорбляющим божество и нарушающим свой долг по отношению к обществу», – отмечал И. Я. Фойницкий [56, с. 5].
Кровная месть известна уголовно‐правовой исто‐ рии почти всех народов, она нашла свое отражение не только в области юридических обычаев и традиций, но и во многих религиозных и этико‐философских уче‐ ниях, в частности, ученик Конфуция Мэн‐цзы (Мен‐ ций) проповедовал: «Когда человек убил отца другого человека, то другой убьет его отца, когда человек убьет брата другого человека, то другой убьет его брата» [33, с. 54]. Кровомщение и сходные с ним ру‐ диментарные и архаические карательные практики не исчезли из социально‐правовой жизни полностью и продолжают использоваться в наше время в некото‐ рых азиатских, южноамериканских и африканских гос‐ ударствах (Афганистан, Ливия, Нигер, Саудовская Ара‐ вия, Судан и др.) [76, pр. 426–440].
Как правило, кровную месть применяют сохра‐ нившие родовой (клановый) принцип социального объединения жители горных и труднодоступных рай‐ онов, проживающие локально, изолированно и бере‐ гущие свои древние правовые обычаи, традиции (албанский канун, кавказские адаты и т. п.) и многове‐ ковой уклад жизни. Следование этому обычаю в усло‐ виях суровой жизни в горах и общения в рамках слож‐ ного механизма межклановых (межтейповых) взаи‐ моотношений на соседних и приграничных террито‐ риях нередко выступало залогом выживания.
Заметим, что кровная месть существенно раздви‐ гает темпоральные (она не имеет сроков давности) и социальные («втягивает» в разрешение эксцесса большое число представителей социума) границы об‐ щественного конфликта (инцидента), в результате чего последний приобретает характер не частного (ин‐ дивидуального, личного) дела, разрешаемого посред‐ ством частной (бытовой, обычной) мести, дуэли (к настоящему времени она сохранилась лишь в Па‐ рагвае), самосуда и т. п., а выходит на уровень обще‐ ственного (коллективного, общего) дела и получает соответствующую оценку. Другой аспект, повышаю‐ щий превентивный эффект такой репрессивной меры, как кровная месть, состоит в том, что страх навлечь кару на родного человека – сына, отца, брата и других – способен остановить даже самого жестокого и бес‐ принципного преступника: угроза потерять близкого родственника принуждает его воздерживаться от пре‐ ступного насилия. В данной связи нельзя не согла‐ ситься с мыслью И. М. Рагимова о том, что «в прин‐ ципе, кровная месть в основе своей является един‐ ственной преградой на пути массовых убийств. Только благодаря кровной мести на Кавказе долгие годы со‐ хранялся порядок, который всех устраивал» [49, с. 18].
Эволюция уголовного наказания
Уже на ранних стадиях развития уголовного нака‐ зания кровная месть была ограничена и лимитирована принципом (законом) талиона (от латинского слова talis – «соответствующий», «равноценный»), возник‐ новение которого считается учеными‐пенологами важной вехой в эволюции феномена наказания. Эта простая и понятная всем пенитенциарная схема, тре‐ бующая симметрии, буквальной соразмерности и точ‐ ного соответствия меры уголовной репрессии нане‐ сенному преступником вреду, часто называется не только первой логической системой наказания, но и первым воплощением корректирующей (ректификаци‐ онной, коммуникативной) справедливости. «…Закон талиона представляет собой результат преодоления еще более древнего обычая неограниченной мести», – пишет Р. Г. Апресян и также констатирует: «талион –это исторически первая форма справедливости» [5, с. 222; 6, с. 83]. Другой видный представитель этики – А. А. Гу‐ сейнов, признавая талион элементарной и универсаль‐ ной формой справедливости, указывает на следующий его явный недостаток: «в возмездии, вершимом по мерке талиона, во внимание принимается лишь проис‐ ходящее деяние, – намерения и конкретные обстоя‐ тельства (возможно, не зависящие от деяния) во вни‐ мание не принимаются» [19, с. 65].
Действительно, в карательной схеме талиона иг‐ норируется субъективная сторона преступления, включая представления о вине преступника, а руко‐ водствующиеся ею оценивают лишь последствия пре‐ ступного акта. Это связано не только с неразвитостью уголовно‐правовой составляющей юридического быта ранних эпох существования принципа талиона, но и с причинами религиозного плана: лишь с прихо‐ дом монотеистических религий – обращенных к чело‐ веческой душе, помыслам и разуму христианства и ис‐ лама –произошел переворот в пенитенциарной сфере и учету, установлению и оценке стали подлежать умы‐ сел, мотивы и намерения. В дохристианский период, в условиях язычества, тотемизма и анимизма, вина че‐ ловека не влияла на наказание, осуществлялось объ‐ ективное вменение, а наказание равным образом рас‐ пространялось на животных и даже на неодушевлен‐ ные предметы: хрестоматийным стал описанный в «Истории» Геродота эпизод, когда по приказу персид‐ ского царя Ксеркса I в течение нескольких дней в нака‐ зание поролось плетьми море, погубившее часть вой‐ ска Ахеменидской державы.
Немецкий правовед К. Биндинг настаивал на том, что «германцы никогда не игнорировали момент вины и публично‐правового момента в преступлении» [9, с. 86], однако, по нашему мнению, данное утвер‐ ждение не совсем корректно и его возможно распро‐ странить лишь на древнегерманские племена, жив‐ шие в нашей эре, а не до Рождества Христова: уровень юридической культуры и правового развития, к при‐ меру, германцев, победивших римлян в сражении при Араузионе в 105 г. до н. э., и германцев, победив‐ ших римлян в сражении при Адрианополе в 378 г. н. э., значительно отличался.
Несмотря на то что закон талиона содержится в первой части Ветхого Завета – Пятикнижии Моисея (Торе): «А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, рука за руку, ногу за ногу, обожже‐ ние за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб» (Ис‐ ход: 21.23‐25), «Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал: перелом за перелом, око за око, зуб за зуб: как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать» (Левит: 24.19‐20), «Да не пощадит глаз твой: душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу» (Второзаконие: 19.21), «Кто про‐ льет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека…» (Бытие: 9.6), «И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен в смерти, но его должно предать смерти» (Числа: 35.31), а также в Коране: «И предписали мы им в ней, что душа – за душу, и око – за око, и ухо – за ухо, и зуб – за зуб, и раны – отмщение» (Коран: 5.45), «О те, которые уверовали! Предписано вам возмездие за убитых: свободный – за свободного, раб – за раба, женщина – за женщину… Для вас в возмездии – жизнь, обладающие разумом! Может быть, вы будете богобоязненны» (Коран: 2.178‐179), «И не убивайте душу, которую запретил Аллах, иначе как по праву. А если кто был убит неспра‐ ведливо, то мы его близкому дали власть, но пусть он не излишествует в убиении…» (Коран: 17.33), он отри‐ цается Иисусом Христом: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему другую…» (Евангелие от Матфея 5: 38‐39), а в Коране по важности ставится ниже, нежели прощение и примирение: «Воздаяние за зло – равноценное зло. Но если кто простит и помирится, тому награда будет от Аллаха» (Коран 42: 40).
Истории уголовного права известны три разно‐ видности талиона: зеркальный (материальный, нату‐ ральный), когда наказание полностью, буквально со‐ ответствовало причиненному вреду, абсурдный (опо‐ средованный), когда наказывались родственники преступника, и символический, когда наказание было направлено на повреждение той части тела преступ‐ ника, которой он нанес вред (отсечение пальцев или руки за кражи до сих пор практикуется в некоторых мусульманских странах (Иран, Йемен, Саудовская Аравия, Судан и др.)). Примечательно, что лживые до‐ носчики, клеветники и лжесвидетели подвергались точно такому же уголовному наказанию, которое гро‐ зило несправедливо обвиненным ими: заведомо ложное обвинение в убийстве приравнивалось к убийству; в Моисеевом законе на этот счет говорится: «Если выступит против кого свидетель несправедли‐ вый, обвиняя его в преступлении, …и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату сво‐ ему; и так истреби зло из среды себя» (Второзаконие: 19.16‐19).
Ограничивший субъективизм, произвольность и неопределенность кровной мести, требующий соот‐ ветствия уголовного наказания преступлению, закон талиона внес в область наказания идею соразмерно‐ сти (равновозмездности, эквивалентности), пеноло‐ гическое значение которой очень велико. Связь между уголовным наказанием и его основанием – преступным деянием благодаря правилу талиона, предусматривающему фиксированные, заранее определенные и безальтернативные параметры ре‐ прессивного воздействия, приобрела внеконъюнк‐ турный и надситуационный характер. Благодаря та‐ лиону в уголовно‐правовой доктрине совершился прогрессивный переход от принципа коллективной ответственности к идее личной, индивидуальной от‐ ветственности, хотя отдельные проявления системы коллективной ответственности продолжали сохра‐ няться [53, с. 388]. Именно в принципе талиона была впервые в юриспруденции воплощена идея фор‐ мального равенства, о чем упоминал П. Лафарг: «Возмездие – это проведение принципа равенства в деле наказания за нанесенное повреждение. Ин‐ стинктивное чувство равенства создает право возмез‐ дия, talion…» [34, с. 42]. Предупредительный (превен‐ тивный) элемент уголовного наказания с появлением закона талиона значительно усилился, так как талион, в отличие от прежних неопределенных, нигде не за‐ крепленных и произвольных санкций, предполагает конкретную, четкую, ясно осознаваемую и гарантиро‐ ванную преступнику меру репрессии.
Развитие простейших форм экономики в ранне‐ классовых обществах, распространение частной соб‐ ственности, рабовладения и торговли, возникновение прямого товарообмена привели к появлению системы композиций (компенсаций, штрафов, выкупов, пе‐ ней), практике товарно‐денежного (материального) возмещения: институтов вергельда, буссы, виры, головничества, урока, бесчестья, дии (дийи) и т. д. Именно на развитие обмена и возникновение воз‐ можности получения выкупов, которые налагались на преступников и обращались в пользу потерпевшей стороны либо феодала, указывал М. Д. Шаргородский как на причину формирования практики частных ком‐ позиций [62, с. 21]. Сохраняющийся принцип коллек‐ тивной ответственности опосредовал обязанность уплаты компенсации за преступный вред потерпев‐ шей стороне не только у самого преступника, но и у всей общины (рода, клана), членом которой являлся последний. Нарастание процессов социальной страти‐ фикации, классообразования привело к дифференци‐ ации размеров компенсаций (штрафов), в основу ко‐ торой был положен сословный (классовый) принцип.
Распространение системы композиций было ускорено по мере укрепления и усиления политиче‐ ской власти, которая стремилась существенным обра‐ зом сузить круг применения и искоренить кровную месть и, преследуя также цели экономической вы‐ годы, заменить истребление и увеченье своих под‐ данных штрафами – выплатами, пополняющими казну. Помимо композиций ограничителем кро‐ вомщения стал судебный поединок (в северогерман‐ ской традиции – «хольмганг», в славянской – «поле»), когда стороны конфликта понуждались разрешить его посредством единоборства двух либо нескольких их представителей, по результатам которого конфликт считался разрешенным, а справедливость восстанов‐ ленной. Наряду с судебным поединком в уголовном праве германских племен и народностей широко ис‐ пользовалась другая разновидность «Божьего суда» – ордалии (испытания огнем, водой, раскаленным же‐ лезом и т. п.). Профессор Императорского Варшав‐ ского университета В. В. Есипов приводит такой инте‐ ресный пример ордалии у древних германцев: «если было донесено, что женщина злым умыслом убила своего мужа, то в таком случае ближайший родствен‐ ник должен был доказать ее невинность поединком; если же она поединщика не могла представить, то подвергалась девятиричному испытанию каленым железом» [20, с. 10].
Абсолютизация власти монархов, стремление поддерживать ее, рассматривавшуюся как гарант богоустановленного порядка, путем внушения страха и преклонения перед ней вывели преступление на уровень угрозы миропорядку и самой публичной вла‐ сти и выдвинули на передний план в карательной де‐ ятельности цель устрашения. Как отмечал С. К. Гогель, «рост государственной власти привел к созданию по‐ нятия преступления не в смысле только нарушения интересов отдельных лиц, а в смысле потрясения условий общежития, но зато и наказанию была глав‐ ным образом поставлена цель устрашения, как ска‐ зано в Etablissements de St. Louis – “pour que les mau‐ vais laissent a mal faire” [17, с. 144]. Данное целепола‐ гание в пенитенциарной практике феодального пери‐ ода обеспечивалось за счет публичных (нередко теат‐ рализованных) членовредительских наказаний, мас‐ сово применявшихся в квалифицированных и мучи‐ тельных формах смертной казни, жестоких пыток, эк‐ зекуций и разнообразных видов унижения (одевание колодок, масок и ошейников позора, выставление у позорного столба, одевание санбенито (в инквизици‐ онном процессе), проведение по улицам в позоря‐ щем виде, обряд гражданской казни и пр.) и истяза‐ ния преступников, целями которых было глумление, запугивание, высмеивание, нанесение психических травм осужденным и сочувствующим им. Уголовное наказание назначалось даже за самые незначитель‐ ные деяния и было намеренно и нарочито несораз‐ мерным, не соответствующим характеру и степени об‐ щественной опасности преступления. В конечном счете оно превратилось в орудие, инструмент поддер‐ жания и защиты феодально‐монархической власти, окончательно монополизировавшей карательную де‐ ятельность. С этого момента государство беспово‐ ротно и безоговорочно становится единоличным но‐ сителем (субъектом) права наказывать, которое реа‐ лизуется его представителями – верховной властью и специально формирующимися и обеспечивающи‐ мися судебными и карательными органами.
Многие средневековые монархии эпохи раннего Средневековья произвели рецепцию римского права, однако в отношении уголовного наказания это не при‐ вело к каким‐либо положительным изменениям, а в ряде случаев даже усилило карательный элемент по‐ следнего: так, например, в составленном во Франции на основе Дигест Юстиниана и Декреталиев Григория IX юридическом своде Li Livres de Jostice et de Plet 1260 г. закреплялся такой существовавший в древне‐ римском уголовном праве квалифицированный вид смертной казни, как казнь путем зашивания преступ‐ ника в мешке с собакой, петухом и змеей.
Усилению превентивного эффекта наказания в период развитого феодализма способствовало рас‐ пространение монотеистических религиозных веро‐ ваний и принятие ими универсальных и всеобщих форм общественного контроля. «Религии удалось идеально реализовать в сознании верующих принцип неотвратимости наказания, что основывалось на вез‐ десущности Бога и неотвратимости наказаний за нару‐ шения в загробной жизни, даже если от них удалось уклониться в этом мире», – резюмирует С. М. Иншаков [22, с. 4]. Идеи посмертного, потустороннего наказа‐ ния, представляемого в форме бесконечных мучений в аду (геенне (в иудаизме она становится символом загробного наказания за грехи с начала II в. до н. э.), джаханнаме в исламе, нараке в индуизме (в Законах Ману описываются двадцать один отдел нараки и наказания, которые ожидают там грешников)), воз‐ рождения в худшем виде при повторном воплоще‐ нии, переселении души – реинкарнации и т. п., в ту пору, вне сомнения, стали оказывать большое сдер‐ живающее воздействие на преступность. Под воздей‐ ствием религиозной веры многие юридические явле‐ ния, в том числе и уголовное наказание, начали рас‐ сматриваться с позиций божественной воли, причем наказание считалось исходящим от последней, а по‐ тому – неотвратимым и справедливым.
Нельзя не отметить, что христианское вероуче‐ ние существенным образом гуманизировало область уголовного права, насытив ее идеями равенства и че‐ ловеколюбия; большим гуманитарным и этическим зарядом наполнены, в частности, заповеди из первой книги Нового Завета: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И ка‐ кою мерою мерите, такой и вам будут мерить. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так по‐ ступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Евангелие от Матфея 7: 1, 2, 12). Такие и подобные им новозаветные заповеди находили свое прямое отра‐ жение в средневековом законодательстве: в ста‐ тье 213 Судебника Мхитара Гоша (около 1184 г.), например, сказано так: «Хотя прежде и полагалось око за око, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу, рана за рану, удар за удар, но сей закон по милосердию бо‐ жьему отменен евангельским учением».
Благодаря укреплению христианской веры при назначении уголовного наказания все больше вни‐ мания стало обращаться на субъективную сторону преступления: мотивы, помыслы, чувства, эмоции, процессы, происходящие в сознании и психике чело‐ века, так как для Церкви первостепенным является спасение души, внутреннее, духовное перерожде‐ ния преступника, его покаяние (чистосердечное при‐ знание своей греховности), самоисправление и са‐ мосовершенствование. Именно поэтому перечень наказаний дополнился такими – носящими сугубо религиозный оттенок – мерами, как отлучение от церковного общения (анафема), епитимьи (по‐ клоны, отлучение от участия в Евхаристии, самоби‐ чевание и др.), заточение в монастырских кельях, посты (включая полный отказ грешника от пищи и воды) и т. п., а в средневековый уголовный процесс некоторых католических стран была включена появившаяся с началом инквизиции – особого цер‐ ковного суда католической церкви, учрежденного папой Иннокентием III в 1215 году, – церемония аутодафе. Подчеркнем, что органы церковной юрисдикции, подобно светским судам, активно применяли различные виды имущественных нака‐ заний, включая конфискацию имущества еретиков, грешников и преступников. Для активно применяв‐ шихся в Средневековье норм канонического права были характерны смешение и неотделимость катего‐ рий аморального, греховного и собственно преступ‐ ного. О резко возросшей роли церкви в сфере уголов‐ ного наказания описываемого периода считающийся основоположником науки церковного права в Рос‐ сии ординарный профессор Императорского Мос‐ ковского университета Н. С. Суворов писал: «Церковь именно, как таковая, как общество верующих в Хри‐ ста, держала в своих руках исправительно‐наказую‐ щую власть, была, выражаясь юридическим языком, субъектом этой власти» [51, с. 46].
Большой вклад в дело гуманизации и индивиду‐ ализации уголовного наказания, религиозного и ду‐ ховно‐нравственного воспитания осужденных пре‐ ступников внесли католические монашеские ордена – бенедиктинцы, бернардинцы, доминиканцы, иоан‐ ниты (госпитальеры), францисканцы, цистерцианцы и др., а представители протестантского христианского движения квакеров (его основатель Джордж Фокс не‐ однократно подвергался тюремному заключению и имел представление о пенитенциарных проблемах) сформировали пенсильванскую тюремную систему (филадельфийский пенитенциарий), – в рамках кото‐ рой помещенные в одиночные кельи преступники в условиях полной изоляции от внешнего мира читали текст Библии, дабы осознать свое богоотступничество и раскаяться, – а также повлияли на создание оборн‐ ской тюремной системы (системы умолчания) и си‐ стемы реформаториев [10, с. 64–68]. Из числа монахов формировались первые корпуса тюремных священно‐ служителей, получивших впоследствии название ка‐ пелланов, которые осуществляли евангелизацию и духовное окормление (пастырское руководство, ду‐ шепопечение) преступников, оказавшихся в местах лишения свободы.
Развитие практики монастырского заточения во многом расширило сферу применения уголовного наказания в виде изоляции осужденных от социума: наказания, связанные с лишением свободы, стали повсеместно назначаться как церковными, так и светскими судами. О. М. Фрейденберг и ряд совре‐ менных нам авторов считают, что именно из мона‐ стырского заточения (заключения в келью) вышло уголовное наказание в виде лишения свободы (тюрьма) [61, с. 23–32], однако мы полагаем, что та‐ кое заключение являлось лишь одной из параллелей в практике социальной изоляции преступников, а вто‐ рой, возникшей раньше, были меры по недопущению возможности скрыться от суда и исполнения приго‐ вора – временное содержание под стражей в усло‐ виях строгой изоляции (для этого использовались подземелья, катакомбы, темницы, избы, землянки, колодцы и т. п., в частности, в Древнем Риме в под‐ земелье Туллианум (ныне Мамертинская тюрьма, считающаяся самым старым строением в современ‐ ном Риме), согласно преданию, содержался апостол Петр, перед тем как он был распят на перевернутом кресте), и именно из него возникло впоследствии ли‐ шение свободы как отдельный и самостоятельный вид уголовного наказания. Примечательно, что не только во многих странах мусульманского Востока в качестве самых первых тюрем использовалась глубо‐ кая яма – зиндан (от персидских слов «зина» – «пре‐ ступление» и «дан» – «вместилище»), но и в Новом Свете существовали точно такие же прообразы клас‐ сической тюрьмы. На это обращал внимание еще криминолог Э. Сатерленд: «в Америке в качестве первой тюрьмы также использовалась разновид‐ ность ямы – заброшенный рудник недалеко от Симс‐ бери» [77, с. 393]. Впоследствии в качестве тюрем стали использовать надводные суда – появились так называемые «плавучие тюрьмы» (наибольшее рас‐ пространение они получили в Великобритании: в 1776–1856 годы на реке Темзе располагалось боль‐ шое количество английских плавучих тюрем – хал‐ ков; в начале 70‐х годов XX века британские власти вернулись к этой практике, превратив списанный во‐ енный корабль «Мейдстоун» в тюрьму для ирланд‐ ских сепаратистов).
Падение феодального строя, проходившее на фоне острого противостояния капиталистических (буржуазных) и феодальных сил и окончательно за‐ вершившееся с «Весной народов», существенным об‐ разом отразилось на уголовно‐правовой теории: ее обогатили новые, революционные и прогрессивные взгляды, концепции и подходы, включая пенологиче‐ ские, которые отражали и развивали идеи мыслите‐ лей, полиматов и гуманистов эпох Реформации и Про‐ свещения. Так, в 1789 году в статье 8 Декларации прав человека и гражданина Великой французской рево‐ люции был закреплен юридический принцип Nulla poena sine lege («Нет наказания без закона»), согласно которому никто не может быть наказан за деяние, ко‐ торое не запрещено в законе. Также среди таких идей была мысль о сокращении карательного заряда нака‐ зания, так как чрезмерная жестокость уголовного наказания не повышала его эффективность, а лишь компрометировала и дискредитировала публичную власть в глазах народа, воспринималась как неспра‐ ведливое и неоправданное зло и вызывала у немалой части общества жалость и сочувствие к наказанным (вплоть до формирования вокруг них (в особенности инсургентов, сурово наказываемых за антигосудар‐ ственные преступления) своеобразного лика, ореола мученичества – как у казненных и прошедших через жестокие пытки христианских страстотерпцев). Хре‐ стоматийным в мировой пенологии стал пример бес‐ смысленности и неэффективности жестоких казней Л. М. Лепелетье де Сен‐Фаржо – его высказывание о том, что в толпе французов, собиравшейся на Грев‐ ской площади в Париже наблюдать за повешением очередного приговоренного к смерти вора‐карман‐ ника, постоянно действуют, воруя у обывателей деньги и другие ценности, точно такие же, как казни‐ мый преступник, карманники.
Сущность новых подходов к уголовному наказа‐ нию отражают слова Ж. де Лабрюйера: «Ненаказан‐ ный преступник – это пример для всех негодяев; невинно осужденный – это вопрос совести всех чест‐ ных людей» – и находившейся под влиянием евро‐ пейских просветителей и моралистов Екатерины II: «Лучше оправдать десять виновных, чем осудить од‐ ного невиновного» (это высказывание было интерпре‐ тацией слов И. Мэзера, произнесенных им в ходе су‐ дебного процесса над «ведьмами» в североамерикан‐ ском городе Салеме: «Пусть лучше несколько ведьм выживут, чем один невиновный будет казнен»).
Помимо усиления культурных и морально‐нрав‐ ственных аспектов пенитенциарной практики, именно в этот период происходит существенное смещение ак‐ центов с односторонне‐репрессивного характера уго‐ ловного наказания в сторону его предупредительной (превентивной) роли. В число основных в пенологиче‐ ской доктрине стала помещаться задача удержания как потенциальных (неустойчивых и неблагонадеж‐ ных лиц) преступников, так и уже состоявшихся (в том числе закоренелых и убежденных делинквентов) пре‐ ступников от совершения запрещенных законом дея‐ ний. Научно‐теоретическому обоснованию, аргумен‐ тации и методическому обеспечению подверглись идеи исправления и перевоспитания преступников [82, pр. 455–168]. Также были четко сформулированы и получили развитие принцип равенства всех перед законом, судом и наказанием и важный криминоло‐ гический постулат – руководящая идея, согласно кото‐ рой не жестокость и беспощадность уголовных санк‐ ций, а неотвратимость (неизбежность) уголовного наказания прежде всего удерживает людей от совер‐ шения преступлений [74, pр. 50–53; 84, pр. 31–34]. В 1843 году в результате неудавшегося покушения ду‐ шевнобольного шотландского деревообработчика на английского премьер‐министра Р. Пиля, породившего большой общественный резонанс, появился юриди‐ ческий прецедент, известный как правило Макнатена (Макнотена), согласно которому уголовному наказа‐ нию не должны подлежать лица, признанные сума‐ сшедшими (невменяемыми), что, вне сомнения, яви‐ лось важным шагом на пути гуманизации и дифферен‐ циации уголовного наказания.
Карательными эквивалентами и объектами «ин‐ тервенции», простирания уголовного наказания по‐ мимо тела, собственности, чести, достоинства и сво‐ боды человека становятся его гражданские и полити‐ ческие права – свое «второе дыхание» обретает суще‐ ствовавшая еще в древнеримском праве гражданская (политическая) смерть («шельмование» во времена Петра I): лишение преступника права участвовать в выборах, вступать в брак, иметь собственность, вы‐ ступать свидетелем в суде и мн. др. (несмотря на от‐ мену во Франции в 1854 году этого вида уголовного наказания, вплоть до 2009 года в ст. 617 Гражданского кодекса Франции (Кодекса Наполеона) было закреп‐ лено, что узуфрукт прекращается в силу «естественной и гражданской смерти узуфруктуария»).
В то же время в пенитенциарной практике по мере сокращения и отмены болезненных (их оруди‐ ями были розги, плети, кнуты, шпицрутены, кошки, ба‐ тоги и пр.) и членовредительских (калечащих) телес‐ ных наказаний (первой европейской уголовной коди‐ фикацией, в которой были отменены телесные нака‐ зания, стал Уголовный кодекс Франции 1791 г.), а равно квалифицированной смертной казни (позд‐ нее – обычной, неквалифицированной смертной казни: в 1786 году она была законодательно отменена в Великом герцогстве Тосканском, в 1846 году отме‐ нена в американском штате Мичиган, в 1863 году от‐ менена в Венесуэле, в 1867 г. отменена за все преступ‐ ления, кроме воинских, в Португалии, в 1870 году от‐ менена в Нидерландах; в России Секретный протокол Сената 1743 года, Указы 1744, 1753 и 1754 годов не от‐ меняли смертную казнь как вид уголовного наказа‐ ния, а вводили особый порядок ее применения, поз‐ воливший Елизавете I за годы своего правления не утвердить ни один приговор к смертной казни) на пе‐ редний план начинает выходить лишение свободы: «теперь тюрьма быстро становится... основным нака‐ занием новой карательной системы, объединяется с обязательными для заключенных работами и вытес‐ няет все другие виды наказания», – писал М. А. Чель‐ цов‐Бебутов [59, с. 29]. В то же время против расшире‐ ния сферы лишения свободы и отмены телесных нака‐ заний выступили некоторые видные европейские уче‐ ные‐правоведы: в частности, немецкий юрист О. Мит‐ тельштедт оправдывал пенологическую модель устрашения, выступал за сохранение смертной казни, позорящих и телесных уголовных наказаний, указы‐ вая на их дешевизну и преимущества для бедных, ма‐ териальное положение которых значительно ухудша‐ ется при продолжительном лишении свободы.
Несмотря на связанный с переходом к модели изоляции существенный прогресс в развитии инсти‐ тута уголовного наказания, места лишения свободы в странах Европы и Азии на протяжении XVIII–XIX ве‐ ков отличались крайне неудовлетворительными условиями: грязными, тесными, антисанитарными, способствующими развитию у заключенных многих заболеваний (тяжелых и нередко приводящих к растянутым по времени страданиям и мучительной смерти) и распространению различных инфекций. Причем нередко подобные условия создавались или поддерживались намеренно: например, тюрьма Пьомби в Венеции располагалась прямо под крышей Дворца дожей, которая была вымо‐ щена свинцовыми плитами, не защищавшими от хо‐ лода зимой, а летом очень сильно нагревавшимися, что причиняло страдания заключенным. В большин‐ стве тюрем не придерживались принципа раздель‐ ного содержания разных категорий осужденных: в одних и тех же помещениях находились дети и взрослые, мужчины и женщины, единожды совер‐ шившие преступление по неосторожности и особо опасные рецидивисты, здоровые и психически больные люди и т. д. Эти недостатки не раз станови‐ лись объектом острой критики таких известных пе‐ нологов, философов, политиков и правоведов, как Ч. Беккариа, И. Бентам, У. Блэкстон, В. Веннинг, Д. Говард, Э. Жирарден, У. Иден, Ф. Каррара, Э. Ли‐ вингстон, Р. Оуэн, С. Ромилли, Д. Селден, Д. Стифен и А. Фейербах [65; 66; 72; 80].
Однако среди отрицательно влиявших на заклю‐ ченных пенитенциарных заведений того времени были и исключения: в частности, исправительное учреждение (реформаторий) в г. Эльмире в северо‐ американском штате Нью‐Йорк (в нем применялась прогрессивная (марочная, балльная, звездная) си‐ стема отбывания наказания) и российские ремеслен‐ ные приюты для малолетних преступников (Вологод‐ ский, Костромской и др.), в которых несовершенно‐ летних привлекали к общественно полезной деятель‐ ности [16, с. 174–176]. Для этих приютов были харак‐ терны хорошие условия содержания, попечение, за‐ бота и обучение содержащихся в них правонарушите‐ лей – детей и подростков.
Расцвет системы европейского колониализма, пришедшийся на период XVIII–XIX веков, привел к сужению практики тюремного заключения в пользу такого вида уголовного наказания, как ссылка. По‐ мимо карательных целей ссылка на данном этапе пре‐ следовала социально‐экономические задачи: освое‐ ния и развития новых территорий и материально‐ре‐ сурсной поддержки жизнеобеспечения колонистов за счет труда осужденных. По этой причине ссыльным преступникам выдавались земельные участки, предо‐ ставлялись жилые помещении и рабочий инвентарь и зачастую разрешалось вступать в ссылке в браки (в том числе с представителями коренного, абориген‐ ного населения колоний) и прибывать к месту ссылки вместе со своей семьей.
Сформировался новый, особый тип ссылки, кото‐ рый известный российский специалист по вопросам ссылки Г. С. Фельдштейн именовал «колонизацион‐ ной или со смешанным характером» [54, с. 15, 22, 33]. В Великобритании местами колониальной ссылки яв‐ лялись северо‐восточная часть Северной Америки (в XVIII веке количество переселенных туда преступни‐ ков составляло 25 % от общего числа эмигрантов), Ав‐ стралия (на этот материк британские власти ссылали преступников и ирландских повстанцев вплоть до 1868 года, когда был принят закон, заменивший ссылку каторжными работами), Сингапур, Индия (включая Андаманские острова), Гибралтар и Бермуд‐ ские острова, во Франции (с учетом релегации как особой разновидности колониальной ссылки для пре‐ ступников‐рецидивистов) – юго‐восточная часть Се‐ верной Америки (Луизиана и соседние земли), Фран‐ цузская Гвиана и Новая Каледония. Известно, что во многом благодаря труду тысяч приговоренных ан‐ глийскими судами к ссылке преступников Австралия в относительно короткие сроки обрела финансовую независимость от метрополии и достигла высокого уровня социально‐экономического развития. На Па‐ рижском тюремном конгрессе 1895 года и Лиссабон‐ ском конгрессе союза криминалистов 1897 года со‐ единенная с полезными для общества работами ко‐ лонизационная ссылка была положительно охарак‐ теризована собравшимися на этих съездах уче‐ ными. Британский парламентарий, реформатор уго‐ ловного и уголовно‐исполнительного законода‐ тельства С. Ромилли также признавал высокое ути‐ литарное и колонизационное значение английской ссылки [55, с. 55].
Не только доказывавшееся и обосновывавшееся пенологами того времени высокое исправительное значение пенитенциарного труда, но и осознание того факта, что не только из штрафов и конфискации иму‐ щества, но и из наказаний, связанных с лишением сво‐ боды и насильственным перемещением, можно из‐ влекать экономическую выгоду и практическую пользу, привело правительства многих стран к актив‐ ному использованию смешанных типов уголовного наказания – ссылки на галеры и – получившей свое наименование от греческого названия галеры – «ка‐ тергон» – каторги, то есть каторжных работ (принуди‐ тельного (подневольного) труда, соединенного с ссылкой), а также таких специальных пенитенциарных конструктов, как арестантские роты (возникли в Рос‐ сии как вид уголовного наказания в 1823 году и были в ведении военного инженерного ведомства (впо‐ следствии – инженерного морского и гражданского ведомств)) и гражданские роты (появились в России в 1830 и до 1870 года находились в ведомстве мини‐ стерства путей сообщения, а затем – министерства внутренних дел как исправительные арестантские от‐ деления), одной из задач которых было содействие развитию городских поселений посредством обще‐ ственного труда осужденных.
Развитие утилитарного подхода к уголовному наказанию и идеи исправления преступников за счет трудовой терапии привело к реформе классических тюрем и переходу от них к исправительным домам (в них в европейских странах помимо преступников по‐ мещались бродяги, нищие и тунеядцы) и трудовым домам (они предназначались в основном для под‐ ростков). Особенностью их функционирования было активное привлечение всех осужденных к полезному и созидательному труду, который, несмотря на его принудительную сущность, достойно оплачивался и тем самым мотивировал и стимулировал заключен‐ ных. В Российской империи такие пенитенциарные за‐ ведения нового типа, согласно А. Ф. Кистяковскому, имели не только ремесленный, но и земледельче‐ ский характер [26, с. 35–36]. Подневольный труд осужденных, по мысли ученых‐пенологов и законо‐ дателей XIX века, должен был вбирать в себя воспи‐ тательные и морально‐этические элементы и соче‐ таться с приучением заключенных к дисциплине и послушанию.
Новый подход к изоляции от социума был во‐ площен в ирландской пенитенциарной системе, считавшейся к концу XIX века самой лучшей, пере‐ довой и положившей начало прогрессивной (ир‐ ландской, крофтонской) системе отбывания наказа‐ ния в виде лишения свободы. Она была создана в 50‐х годов XIX века ирландским тюремным админи‐ стратором У. Крофтоном. В соответствии с ней все заключенные содержались раздельно (по полу, воз‐ расту, наличию рецидива и т. д.), приобщались к труду, получали образование и подробно информи‐ ровались о специальных правилах, которые подра‐ зумевали прохождение ими трех этапов. Первый этап предполагал содержание в одиночных каме‐ рах в условиях строгой изоляции не менее 9 меся‐ цев. За дисциплинированность и безупречное пове‐ дение осужденные зарабатывали «марки» (баллы, отметки), набрав которые они получали возмож‐ ность перейти на второй этап, предусматривающий коллективный и оплачиваемый труд в мастерских. Усердный и добросовестный труд в рамках такой «марочной» системы давал право перехода на тре‐ тий этап, отличавшийся самыми мягкими услови‐ ями: заключенные помещались в «переходные заве‐ дения» (в них разрешалось учиться в тюремной школе, читать книги, посещать церковь, выполнять поручения администрации, допускалось расконвои‐ рование и др.). На этой стадии некоторые категории осужденных, набравших необходимое количество «марок», по истечении определенного срока могли получить «билет» для условно‐досрочного освобож‐ дения. После такого освобождения на них налагался ряд ограничений, но главное, что они помещались под надзор полиции либо гражданских лиц, которые должны были помогать в поисках работы и посещать освобожденных на дому. При совершении какого‐ либо правонарушения или неблаговидного про‐ ступка освобожденный досрочно лишался своего «билета» и незамедлительно возвращался обратно в тюрьму [18, с. 8–22]. Впервые усовершенствованная У. Крофтоном «марочная» (балльная, звездная) си‐ стема была применена в 1840 году комендантом ан‐ глийской тюремной колонии на о. Норфолк, шот‐ ландцем А. Маконохи (Маконочи), известным в пе‐ нологии как «отец условно‐досрочного освобожде‐ ния», который сам два года провел в французской тюрьме, будучи военнопленным. Благодаря ему в Великобритании были законодательно закреплены нормы о сокращении сроков уголовного наказания за примерное поведение, об «условных отпусках» и об «условном и безусловном прощении».
Уголовное наказание в XX веке
С началом XX века непрерывно эволюциониро‐ вавшее и значительно усложнившееся в идейно‐тео‐ ретическом отношении и в плане практической реали‐ зации уголовное наказание вступило в сложный и противоречивый период своего развития, который М. Н. Гернет охарактеризовал словами: «Мы пережи‐ ваем период борьбы не только с преступлениями, но также и время не менее интенсивной борьбы и с са‐ мим наказанием» [14, с. 319]. Особенно сильной кри‐ тике и теоретическим нападкам институт уголовного наказания подвергся в первой четверти XX века, на ко‐ торую выпало множество как правовых и пенитенци‐ арных реформ и экспериментальных преобразований во многих странах мира, так и новых концепций обра‐ щения с преступниками и теорий предупреждения преступности [43, с. 28–32; 78, рp. 332–337; 81, p. 20]. Показательными в этом отношении являются резкие аболиционистские выводы изучавшего уголовно‐пра‐ вовые проблемы противодействия половым преступ‐ лениям Б. И. Пятницкого: «Наказание виновных явля‐ ется жестокой несправедливостью, тут место лече‐ нию… или, в крайнем случае, – изолирование в боль‐ ницы» [48, с. 82].
Сторонники нового позитивистского направле‐ ния в уголовном праве, гиперболизировавшие зна‐ чение специальной превенции, и приверженцы концепции социальной защиты настаивали на от‐ казе от репрессивно‐возмездных основ в уголовном наказании, а в конечном итоге и от самого наказа‐ ния, предлагая вместо него оборонительные и про‐ филактические «меры социальной защиты», при‐ емы некарательного обращения с преступниками и различные средства терапевтического и исправи‐ тельно‐воспитательного воздействия. В отличие от классического уголовного наказания, покоящегося на идее соразмерности, эти меры не знали границ и пределов вмешательства в сферу прав, свобод и за‐ конных интересов человека, большинство из них вообще не основывалось на праве, на принципе справедливости и таких юридических конструкциях, как вина, ответственность, законность и т. п., и по‐ этому они, отличавшиеся широким диапазоном и размытостью рамок, быстро обнаружили свою несостоятельность и оказались гораздо более не‐ справедливыми и аморальными, чем уголовное наказание. М. И. Ковалев отмечал, что они «пред‐ ставляют собой открытые или замаскированные формы произвола и посягательства на основные права человека» [28, с. 8–9], а И. И. Карпец подчер‐ кивал, что отказ от уголовного наказания «оборачи‐ вается предложениями о введении еще более без‐ нравственных средств борьбы с преступностью, без закона, с помощью… любых мер, которые смогут предложить реакционные юристы, криминологи, психологи, психиатры» [24, с. 178].
К применявшимся в XX веке альтернативным уголовному наказанию предупредительным и испра‐ вительным мерам относились инсулиновый шок (ме‐ тодика введения в коматозное состояние), электро‐ шок, префронтальная лоботомия – лейкотомия (хи‐ рургическая операция по исключению воздействия лобных долей мозга на другие структуры централь‐ ной нервной системы, которая, как предполагалось, способна устранить агрессивность и проявления яро‐ сти), таламотомия (хирургическая операция по по‐ вреждению отдельных участков области мозга, кото‐ рая отвечает за передачу информации от органов чувств к коре головного мозга), транскраниальная магнитная стимуляция (метод воздействия на кору головного мозга с помощью магнитных импульсов) и влияние с помощью ультразвука и разрядов электро‐ тока на выявленные с помощью энцефалографа зоны особой электрической активности мозга (метод, зиждущийся на теории Д. Стэффорда‐Кларка о связи насильственного преступного поведения с наруше‐ ниями в ритмах мозговых волн, которая была обна‐ ружена в ходе электроэнцефалографических иссле‐ дований путем сравнения энцефалограмм серийных убийц и обычных людей). Данные методы дополни‐ лись способами устранения и коррекции преступных наклонностей и свойств, разрабатывавшимися пред‐ ставителями такого нового направления в науке о преступности, как клиническая криминология (Д. Сабо, Б. ди Туллио и др.). В числе этих приемов находились и меры медикаментозного воздействия на преступников, например, применение декстроам‐ фетамина, метилфенидата, панкурония, сукцинилхо‐ лина, ципротеронацетата и других психотропных препаратов и сильнодействующих веществ.
Практическая реализация криминологической концепции «опасного состояния», берущей свое начало с известной работы Р. Гарофало «Критерии опасного состояния» 1880 года (в которой доказыва‐ лось, что во многих случаях преступления соверша‐ ются в результате определенного психического со‐ стояния, приводящего человека к конфликту с обще‐ ством), поддержанной и развивавшейся в Европе М. Анселем, Д. Канепой, Ж. Пинателем и Э. Ферри, а в Союзе ССР – А. Я. Вышинским, Н. В. Крыленко, Д. И. Курским и Е. Г. Ширвиндтом, привела к исполь‐ зованию системы неопределенных приговоров. Суть данного подхода заключалась в том, чтобы не осво‐ бождать преступников из мест изоляции до тех пор, пока они не перестанут, по мнению специальной ко‐ миссии (или пенитенциарной администрации), пред‐ ставлять опасность для общества. Модель неопреде‐ ленных приговоров начиная с 1876 года интенсивно применялась на территории США, в частности, в упоминавшемся выше реформатории в г. Эльмире: возглавлявший его З. Броквей в 1877 году добился законодательных изменений, передававших исклю‐ чительное право суда на определение срока лишения свободы главе реформатория [79, рp. 4–17]. В 20‐х годах XX века в СССР также предпринимались попытки законодательно закрепить институт неопре‐ деленных приговоров, которые привели к тому, что в 30‐х годах XX века на уровне подзаконных актов начальники некоторых советских исправительно‐ трудовых лагерей получили единоличное право про‐ длевать сроки лишения свободы в качестве дисци‐ плинарной меры воздействия.
Аккумулированный пенитенциарный опыт продемонстрировал, что попирающие основопола‐ гающие принципы классического уголовного права неопределенные приговоры не достигают цели частной превенции и не приводят к реальному ис‐ правлению, а заставляют осужденных создавать ви‐ димость последнего; они также порождают грубые злоупотребления и произвол со стороны админи‐ страции мест лишения свободы. Согласно мнению американского правоведа П. Робинсона, система неопределенных приговоров в США прежде всего оказалась несправедливой: она не только неоправ‐ данно расширила сферу судейского усмотрения, но и часто приводила к существенным различиям при назначении уголовного наказания разным подсуди‐ мым за одинаковые преступления [69, рp. 63–71; 70, рp. 225–271].
Проводившиеся в XX веке радикальные преоб‐ разования и реформы сферы уголовного наказания, помимо описанных выше отрицательных итогов, ко‐ нечно, имели и положительные результаты. Так, в частности, одна из наиболее эффективных и успеш‐ ных реформ была произведена в 60‐е годы XX века в Финляндии, которая в начале XX века располагалась на первом месте среди западноевропейских стран по количеству осужденных к лишению свободы на душу населения (тюремный контингент в Финляндии был почти в три раза больше, чем в соседних северных государствах – Дании, Норвегии и Швеции) и одно‐ временно была в числе лидеров по уровню преступ‐ ности. Основными причинами реформирования пе‐ нитенциарной сферы, предварявшегося широким общественным и политическим обсуждением, были высокая степень рецидива, рост финансовых расхо‐ дов на содержание правоохранительной и уголовно‐ исполнительной систем и малая эффективность уго‐ ловного наказания, связанного с изоляцией от обще‐ ства. При проведении реформы был сужен спектр применения наказания в виде лишения свободы за счет увеличения области применения материальных мер уголовной ответственности (штрафов, конфиска‐ ции имущества и др.), расширены пределы исполь‐ зования института условно‐досрочного освобожде‐ ния, уменьшены санкции большого числа статей Уго‐ ловного кодекса Финляндии и смягчены нормы об определении наказания при рецидиве преступлений. В виде альтернативного изоляции от общества уголов‐ ного наказания были закреплены общественные (обя‐ зательные) работы, причем в законодательстве особо подчеркивалось, что привлечение к общественным работам не должно лишать других финских граждан, осуществляющих такие же работы на постоянной ос‐ нове, рабочих мест. Последствиями проведенной ре‐ формы стали значительное сокращение общего числа заключенных, заметное снижение в Финлянд‐ ской Республике уровня преступности и существен‐ ная экономия бюджетных средств [31, с. 28–29]. При‐ мечательно, что в финских местах принудительного содержания, за исключением специальных участков для особо опасных рецидивистов и злостных нару‐ шителей дисциплины, были отменены режим пол‐ ной изоляции и строгие запреты на перемещение. И. Я. Гилинский так описывает эти нововведения: «заключенным… выдаются ключи от камеры, чтобы человек, уходя, мог закрыть дверь в “свою комнату” и открыть, возвращаясь. По мнению начальника тюрьмы, это позволяет заключенным сохранять чув‐ ство собственного достоинства… Заключенные про‐ живают по одному‐два человека в камере и днем свободно гуляют по коридору, заходят в гости друг к другу» [15, с. 120].
Не менее результативные реформы пенитен‐ циарной сферы в 70‐х годы XX века были осуществ‐ лены в Канаде. Идейно‐концептуальной основой реформирования стал постепенный отказ от закре‐ пившейся начиная с середины XIX века в англо‐ка‐ надском уголовном праве теории формального (апологического) возмездия И. Канта, требовавшей равенства уголовного наказания преступлению по силе воздействия на свободу делинквента и отра‐ жения в содержании уголовной кары сущности со‐ вершенного преступного деяния [83, pр. 347–388]. Вместо традиционного тюремного заключения в рамках специально разработанных новых программ реабилитации и реинтеграции осужденных была реализована модель «постепенного освобожде‐ ния», предоставлявшая заключенным возможность в течение дня работать в коллективах за пределами места лишения свободы и возвращаться обратно на ночь. Коррекционные учреждения промежуточного типа, созданные в Канаде при реализации модели «постепенного освобождения» и призванные об‐ легчить процесс возвращения осужденных в обще‐ ство, получили наименование «дома на полпути»: ввиду того, что они находятся на полпути между жизнью в изоляции и жизнью на свободе. В этих промежуточных учреждениях (их также называют общественными исправительными центрами) ка‐ надские осужденные получают необходимые им социальные навыки для адаптации и реинтеграции в общество, а также образовательные услуги (в настоящее время в год на образование одного за‐ ключенного в Канаде тратится около 3000 дол.), психологическую и медицинскую поддержку, вклю‐ чая помощь в поиске работы и в поступлении в учебное заведение, специальные тренинги, бес‐ платные консультации и т. п. Активное использование ресоциализационных и реабилитационных про‐ грамм привело к резкому снижению постпенитен‐ циарного рецидива в Канаде [71, рp. 452–469; 73, рp. 42–52], а реформирование системы уголовного наказания в целом – к тому, что Канада в текущее время является одной из самых безопасных в кри‐ минальном отношении стран в мире.
Помимо эффективного внедрения ресоциализа‐ ционных практик важной составляющей канадских пенитенциарных реформ было развитие модели ре‐ ституционного правосудия (restorative justice) – кон‐ цепции восстановительного правосудия. Самый пер‐ вый опыт ее применения имел место в 1974 году в г. Китченер канадской провинции Онтарио, где столетиями применялись «круги примирения» (круги правосудия), содержащиеся в правовых обы‐ чаях автохтонного населения этих районов Канады – индейцев алгонкинов [30, с. 32]. Реституционное правосудие, в ходе которого преступник и жертва по‐ средством медиации активно участвуют в разреше‐ нии всех вопросов, связанных с преступным деянием и в особенности – с нивелированием его вредных по‐ следствий, выступило должной альтернативой тра‐ диционному уголовному преследованию. Восстано‐ вительная юстиция помещает в центр своих прими‐ рительных процедур фигуру потерпевшего (жертву преступления) и его интересы и предусматривает применение меры в виде лишения преступника сво‐ боды только в исключительных случаях, предлагая широкий диапазон альтернативных способов нейтрализации конфликта, которые выходят за пре‐ делы классической системы уголовного наказания и постоянно совершенствуются. Специфической чер‐ той модели восстановительного правосудия, реали‐ зуемой в многонациональной Канаде, является уча‐ стие в нем представителей «третьего сектора», от‐ стаивающих свободы, права и интересы как корен‐ ных, так и некоренных этносов, населяющих эту страну. Во многом благодаря положительному ка‐ надскому опыту система восстановительного пра‐ восудия получила известность, признание и распро‐ странение в уголовном праве многих государств в настоящее время.
Заключение
Закономерности формирования и поступатель‐ ного развития уголовного наказания показывают, что оно становится менее репрессивным и жестоким и постепенно гуманизируется по мере перманентного социально‐культурного и духовно‐этического разви‐ тия человечества, а равно цивилизационного про‐ гресса. Уголовное наказание сыграло большую роль в складывании и закреплении социальных отноше‐ ний и продолжает выполнять прогрессивную функ‐ цию по их обеспечению, являясь непреложным и ценным элементом общечеловеческой культуры и уникальным социально‐правовым феноменом.
Феномен уголовного наказания эволюционирует и претерпевает сущностно‐содержательные измене‐ ния в зависимости от социально‐экономических, мо‐ рально‐нравственных и политических условий жизни общества. Перемены и сдвиги в последних приводят к изменениям в целеполагании, структуре, форматах, механизме воздействия и доктринальных основах уго‐ ловного наказания, которые, в свою очередь, модифи‐ цируют пенитенциарную практику: в настоящий мо‐ мент – ввиду отступления от консервативного ретро‐ спективно‐карательного вектора – она в большей сте‐ пени ориентирована на предупреждение преступного поведения, ресоциализацию и исправление преступ‐ ников и использование альтернативных изоляции от общества видов уголовного наказания.
Список литературы Зарождение и эволюция уголовного наказания как социально-юридического феномена
- Алексеев С. С. О понятии права // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1970. № 1. С. 20-29.
- Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия: некоторые тенденции мирового правового развития - надежда и драма современной эпохи. М.: Статут, 2000. 255 с.
- Аликперов Х. Д. Неизведанные грани наказания и тайны его бытия («Учение о нечеловекотворно-сти наказания»). СПб.: Юридический центр, 2020. 105 с.
- Антонян Ю. М. Преступность в первобытном обществе // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. 2019. № 3. С. 119-131. DOI: 10.28995/20736304-2019-3-119-131.
- Апресян Р. Г. Талион: его восприятие и видоизменения в христианстве и исламе // Сравнительная философия: моральная философия в контексте многообразия культур: материалы Первой моск. междунар. конф. М.: Восточная литература, 2004. С. 221-229.
- Апресян Р. Г. Талион и золотое правило: критический анализ сопряженных контекстов // Вопросы философии. 2001. № 3. C. 72-84.
- Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М.: Инфра-М, 2004. 184 с.
- Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник русского уголовного права. Общая и особенная части. Киев: Южно-русское книгоиздательство Ф. А. Иоган-сона, 1903. 618 с.
- Биндинг К. О происхождении публичного наказания в германо-немецком праве // Новые идеи в правоведении. Сборник 3: Эволюция преступлений и наказаний. СПб.: Образование, 1914. С. 81-112.
- Васильева С. А. Идеология квакеров и возникновение филадельфийской системы тюремного содержания // Вестник Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 2015. № 4. C. 64-74.
- Вишняцкий Л. Б. Вооруженное насилие в палеолите // Stratum plus. Археология и культурная антропология. 2014. № 1. С. 311-332.
- Владимиров Л. Е. Уголовный законодатель как воспитатель народа. М.: Скоропечатня товарищества А. А. Левенсон, 1903. 244 с.
- Георгиевский Э. В. К вопросу о характере и степени конфликтности в первобытном стаде // Сибирский юридический вестник. 2005. № 3. С. 50-54.
- Гернет М. Н. Избранные произведения. М.: Юрид. лит., 1974. 637 с.
- Гилинский Я. И. Исполнение наказания в системе социального контроля над преступностью // Закон. 2012. № 9. С. 117-128.
- Говард Г. Костромской ремесленный приют для малолетних преступников (по отчету за 1894 год) // Журнал Министерства юстиции. 1895. № 9. С. 174176.
- Гогель С. К. Курс уголовной политики в связи с уголовной социологией. М.: Инфра-М, 2014. 386 с.
- Гольцендорф Ф. Ирландская тюремная система, в особенности переходные заведения, до отпущения арестантов на свободу. СПб.: Тип. В. Головина, 1864. 130 с.
- Гусейнов А. А. Социальная природа нравственности. М.: Изд-во МГУ, 1974. 157 с.
- ЕсиповВ. В. Преступление и наказание в древнем праве. Варшава: Тип. Варшавского учебного округа, 1903. 61 с.
- Звизжова О. Ю. Первобытная преступность // Общество и право. 2010. № 4. С. 214-220.
- Иншаков С. М. Зарубежная криминология: учеб. пособие. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2003. 383 с.
- Карпец И. И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы. М.: Юрид. лит., 1973. 287 с.
- Карпец И. И. Уголовное право и этика. М.: Юрид. лит., 1985. 256 с.
- КистяковскийА. Ф. Исследование о смертной казни. Тула: Автограф, 2000. 272 с.
- Кистяковский А. Ф. Молодые преступники и учреждения для их исправления. Киев: тип. И.И. Завадского, 1878. 232 с.
- Кистяковский А. Ф. Элементарный учебник общего уголовного права с подробным изложением начал русского уголовного законодательства. Часть общая. Киев: Изд-во Ф. А. Иогансона, 1891. 892 с.
- Ковалев М. И. Пути повышения эффективности криминологических исследований // Вопросы эффективности уголовно-правовых норм: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 66. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1978. С. 5-13.
- Козаченко И. Я., Корсаков К. В., Лещенко В. Г. Церковно-религиозное воздействие на осужденных к лишению свободы. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2012. 256 с.
- Корсаков К. В. Восстановительная юстиция как альтернатива традиционному уголовному правосудию // Виктимология. 2018. № 3. С. 29-35.
- Корсаков К. В. Эффективность уголовного наказания и альтернативных мер воздействия на преступников: сравнительно-правовой анализ // Российское право: образование, практика, наука. 2018. № 2. С. 28-34.
- Косвен М. О. Преступление и наказание в до-государственном обществе. М., Л.: Госиздат, 1925. 140 с.
- Кычанов Е. И. Основы средневекового китайского права (VN-XШ вв.). М.: Наука, 1986. 264 с.
- Лафарг П. Происхождение идеи справедливости // Марксизм и этика: сб. ст. Киев: Госиздат Украины, 1925. С. 35-62.
- Линовский В. А. Исследование начал уголовного права, изложенных в Уложении царя Алексея Михайловича. Одесса: Городская типография, 1847. 149 с.
- Мальцев Г. В. Социальная справедливость и право. М.: Мысль, 1977. 255 с.
- Мацкевич И. М. Портреты знаменитых преступников. М.: ПолиграфОпт, 2005. 414 с.
- Миттермайер К. И. А. Смертная казнь по результатам научных исследований, успехов законодательства и опытов. СПб.: Тип. А. С. Голицына, 1864. 170 с.
- Морган Л. Г. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса через варварство и цивилизации. Л.: Изд-во Ин-та народов Севера ЦИК СССР, 1934. 350 с.
- Мэйн Г. Д. С. Древнее право, его связь с древней историей общества и его отношение к новейшим идеям. СПб.: Д.Е. Кожанчиков, 1873. 312 с.
- Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. К генеалогии морали. Минск: Беларусь, 1992. 333 с.
- Оппенгеймер Г. Историческое исследование о происхождении наказания // Новые идеи в правоведении. Сборник 3: Эволюция преступлений и наказаний. СПб.: Образование, 1914. С. 1-80.
- Оранжиреев Н. Д. Преступление и наказание в математической зависимости: идея и схема ее применения. М.: Литотипография товарищества И. Н. Кушнерев и К°, 1916. 69 с.
- Осипов А. И. Путь разума в поисках истины. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2002. 430 с.
- Пашуканис Е. Б. Избранные произведения по общей теории права и государства. М.: Наука, 1980. 271 с.
- Поздняков Э. А. Философия преступления. Для тех, кто не боится потерять иллюзии. М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2001. 575 с.
- Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). М.: Мысль, 1974. 488 с.
- Пятницкий Б. И. Половые извращения и уголовное право. Могилев: Тип. И. Б. Клаза, 1910. 93 с.
- Рагимов И. М. Философия преступления и наказания. СПб.: Юрид. центр, 2013. 288 с.
- Рулан Н. Юридическая антропология: учебник. М.: Норма, 2000. 301 с.
- Суворов Н. С. О церковных наказаниях. Исследования по церковному праву. СПб.: Типография и хромолитография А. Траншеля, 1876. 346 с.
- Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая: лекции. Т. 1. СПб.: Гос. типография, 1902. 815 с.
- Тард Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность. Преступления толпы. М.: Ин-фра-М, 2004. 391 с.
- Фельдштейн Г. С. Ссылка. Очерки ее генезиса, значения, истории и современного состояния. М.: Скоропечатня товарищества А. А. Левенсон, 1893. 192 с.
- Фойницкий И. Я. Ссылка на Западе в ее историческом развитии и современном состоянии. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1881. 351 с.
- Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб.: Типография Министерства путей сообщения (А. Бенке), 1889. 504 с.
- Фрейд З. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. СПб.: Алетейя, 1997. 221 с.
- Харузин Н. Н. Очерки первобытного права. I. Семья и род. М.: Изд-во книж. магазина Гросман и Кнебель, 1898. 179 с.
- Чельцов-Бебутов М. А. Преступление и наказание в истории и в советском праве. Харьков: Изд-во НКЮ УССР, 1925. 111 с.
- Черри Р. Р. Развитие карательной власти в древних общинах. СПб.: Сенатская типография, 1907. 111 с.
- Шаляпин С. О. Религиозно-доктринальные основания пенитенциарной практики в византийском и древнерусском праве // Актуальные проблемы правовой науки: сборник научных трудов юридического факультета. Вып. 1. Архангельск: Изд-во ПГУ им. М. В. Ломоносова, 2000. С. 23-32.
- Шаргородский М. Д. Наказание по уголовному праву: в 2-х т. Т. 1: Наказание по уголовному праву эксплуататорского общества. М.: Изд-во юрид. лит., 1957. 304 с.
- Шепталин А. А. Генезис и эволюция института наказания в первобытном обществе // Человек: преступление и наказание. 2019. Т. 27, № 2. С. 169189. DOI: 10.33463/1999-9917.2019.27(1-4).2.169-189.
- Штрайт Й. Дело не только в наказании. М.: Юрид. лит., 1978. 96 с.
- Beccaria C. Traite des Délits et des Peines. Neu-chatel, 1797. 332 p.
- Bentham J. Theorie des Peines et des Recompenses. T. 2. Londres: Vogel et Schulze, 1811. 368 p.
- Bonnabel L. Archéologie de la Mort en France. Paris: La Découverte, 2012. 173 p.
- Buggle F. Denn Sie Wissen Nicht, Was Sie Glauben. Oder Warum Man Redlicherweise Nicht Mehr Christ Sein Kann. Eine Streitschrift. Hamburg: Rowohlt, 1992. 461 p.
- Robinson P. H. Crime, Punishment and Prevention // The Public Interest. 2001. Issue 142. Pp. 61-71.
- Robinson P. H. Reforming the Federal Criminal Code and the Model Penal Code: A Top Ten // Buffalo Criminal Law Review. 1997. Vol. 1. Issue 1. Pp. 225-271.
- Ruddell R., Winfree L. T. Setting Aside Criminal Convictions in Canada: A Successful Approach to Offender Reintegration // The Prison Journal. 2006. Vol. 84. Issue 4. Pp. 452-469. DOI: 10.1177/0032885506293251.
- Semple J. Bentham's Prison. A Study of the Panopticon Penitentiary. Oxford: Clarendon Press, 1993. 344 p.
- Skogan W. G. Community Organizations and Crime // Crime and Justice. 1988. Issue 10. Pp. 39-78. DOI: 10.1086/449143.
- Smilansky S. The Time to Punish // Analysis. 1994. Vol. 54. Issue 1. Pp. 50-53. DOI: 10.1093/analys/ 54.1.50.
- Spitzer S. Punishment and Social Organization: A Study of Durkheim's Theory of Penal Evolution // Law & Society Review. 1975. Vol. 9. Issue 4. Pp. 613-638. DOI: 10.2307/3053341.
- Super G. Punitive Welfare on the Margins of the State: Narratives of Punishment and (In)Justice in Masiphumelele // Social & Legal Studies. 2020. Vol. 30. Issue 1. Pp. 426-447. DOI: 10.1177/0964663920924764.
- Sutherland E. Criminology. Philadelphia: J.B. Lippincott, 1924. 643 p.
- Toby J. Is Punishment Necessary? // The Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science. 1964. Vol. 55. Issue 3. Pp. 332-337. DOI: 10.2307/1141213.
- Tonry M. Crime and Punishment in America // The Handbook of Crime and Punishment. N. Y.: Oxford University Press, 2000. Pp. 3-27.
- Van Zyl Smit D., Snacken S. Principles of European Prison Law and Policy: Penology and Human Rights // British Journal of Criminology. 2010. Vol. 50. Issue 3. Pp. 613-615. DOI: 10.1093/bjc/azq017.
- Will G. F. The Value of Punishment // Newsweek. 1982. May 24. Issue 21. Pp. 20.
- Wood D. Punishment: Consequentialism // Philosophy Compass. 2010. Vol. 5. Issue 6. Pp. 455-469. DOI: 10.1111/j.1747-9991.2010.00287.x.
- Yang S. Kant's Theory of Punishment in a Canadian Setting // Queen's Law Journal. 1977. Issue 22. Pp. 347-388.
- Zimmerman M. The Immorality of Punishment. Buffalo, N.Y.: Broadview Press, 2011. 183 p.