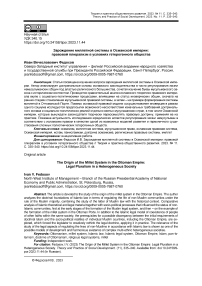Зарождение миллетной системы в Османской империи: правовой плюрализм в условиях гетерогенного общества
Автор: Федосов И.В.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 11, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению вопроса зарождения миллетной системы в Османской империи. Автор анализирует доктринальные основы исламского законодательства в части регулирования жизни немусульманских общин под властью религиозного большинства, сочетая изучение буквы мусульманского закона с историческим контекстом. Проводится сравнительный анализ исламского теоретико-правового материала вкупе с социально-политическими процессами, влиявшими на статус иноверческих общин, сначала на ранних стадиях становления мусульманской правовой системы, а затем - на примере формирования системы миллетой в Оттоманской Порте. Помимо исламской правовой модели сосуществования иноверцев в рамках одного социума исследуются предпосылки возможного несоответствия изначальных требований доктринального ислама и социально-политических реалий отдельно взятых мусульманских стран, в том числе Османской империи, которые вынуждали законодателя творчески переосмыслять правовую доктрину, применяя ее на практике. Показана актуальность исследования юридических аспектов регулирования жизни немусульман в соответствии с исламским правом в качестве одной из возможных моделей развития и гармоничного существования сложных полиэтнических гетерогенных обществ.
Османизм, миллетная система, мусульманское право, исламская правовая система, османская империя, ислам, панисламизм, доктрина османизма, религиозные правовые системы, миллет
Короткий адрес: https://sciup.org/149144610
IDR: 149144610 | УДК: 340.15 | DOI: 10.24158/tipor.2023.11.44
Текст научной статьи Зарождение миллетной системы в Османской империи: правовой плюрализм в условиях гетерогенного общества
Северо-Западный институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия, ,
North-West Institute of Management – Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, St. Petersburg, Russia, ,
В исламском праве вопросу сосуществования мусульман и иноверцев уделяется значительное место. Столь подробная регламентация и высокая степень разработки на уровне как доктрины, так и правоприменительной практики уходит корнями вглубь веков, когда исламская религия только зарождалась.
Первоначально статус немусульман в сфере публично-правового господства последователей ислама регулировался сугубо религиозными нормами, зафиксированными в Коране и Сунне Пророка, являющихся первичными и важнейшими источниками исламской догматики. Примечательно, что еще Мухаммад в своих проповедях говорил, как мусульманам надлежит вести себя с иноверцами, проживающими под властью уммы (исламской общины), но он не рассматривал обратную ситуацию – когда мусульмане живут в сфере власти немусульман. Дальнейший анализ и теории, и практики применения исламских норм, регулирующих жизнь уммы, убеждает нас в том, что ситуация недоминирования мусульман в общественно-политической жизни исламской религиозной и правовой догматикой обходится вниманием неспроста: подобное положение дел мыслится противоестественным и крайне нежелательным. Ислам изначально осознается как комплексная религиозно-философская система, рассчитанная на агрессивную экспансию вовне и не менее бескомпромиссное доминирование на территории, мусульманам уже подвластной, – дар-аль-ислам. На данном стержневом тезисе, красной нитью проходящем через все религиозное учение и социально-правовые практики мусульман, строится исламское видение системы социального взаимодействия в целом.
В процессе стремительного расширения Арабского халифата и распространения ислама под власть праведных халифов – наследников правления Мухаммада – подпадали многие территории, населенные неарабским населением, среди которых завоеватели составляли численное меньшинство. Первыми в ряду приобретений арабов-мусульман стали восточно-римские Египет, Сирия и Палестина, вскоре за которыми последовала сасанидская Персия, Северная Африка, откуда арабы перебрались в Европу, почти полностью подчинив своей власти Пиренейский полуостров и дойдя до Южной Франции.
Экспансия ислама была остановлена мажордомом Франкского королевства Карлом Мартеллом при Пуатье. Однако, невзирая на поражение от франков, под властью арабов – и, как следствие, исламской религии – остались огромные пространства, населенные – особенно на начальном этапе – преимущественно христианами, иудеями (в меньшей степени), а также представителями мелких локальных политеистических культов, встроившихся в установившуюся еще до арабов социальную структуру. Зарождавшийся новый социальный порядок после арабского завоевания нуждался в детальной регламентации, которую обеспечили исламские священные тексты и их толкования профессиональными богословами (бравшими на себя также и роль своеобразных юристов). Регулирование взаимодействия уммы с иноконфессиональными общинами основывалось сначала напрямую на проповедях Мухаммада, а позже – на все более усложнявшейся и развивавшейся исламской правовой системе. Безусловно, этот процесс происходил медленно, в течение нескольких веков, однако концептуальные основы были заложены.
Учитывая, что ислам в догматическом плане сформировался под очевидным влиянием двух более ранних авраамических религий – иудаизма и христианства, их последователи с точки зрения мусульман всегда пользовались наибольшим «благоприятствованием». В некоторых аятах иудеи и христиане даже приравниваются к правоверным, поскольку Бог всех трех религий един: «Кто же отвернется от религии Ибрахима (Авраама), кроме глупца? Мы избрали его в мирской жизни, а в Последней жизни он будет в числе праведников» (2:130)1. Данный догмат мусульманского вероучения может быть объяснен также тем, что главнейший тезис Корана и Сунны – утверждение единобожия и осуждение политеизма. В этом смысле приверженцы первого, естественно, представлялись в более выгодном свете, нежели язычники.
Невзирая на «преференции», которыми пользовались иудеи и христиане в глазах мусульманских правителей, умма с точки зрения ислама является наивысшей ценностью: ни о каком правовом или аксиологическом равенстве мусульман и немусульман не может быть и речи2.
Во-первых, это может быть объяснено логическим путем: Бог ниспослал свой Закон именно Мухаммаду и его последователям (правоверным), следовательно, наиболее угодными в Его глазах являются именно те, кто внял Закону, то есть мусульмане. Все прочие последователи монотеистических авраамических религий если и не столь же «грешны», как язычники, не ведающие религиозной Истины, то, во всяком случае, не знают этой Истины до конца и не желают ее узнать, то есть не хотят принять ислам и остаются в лоне своей веры; следовательно, иудеи и христиане в иерархии «праведности» перед лицом Аллаха стоят несомненно ниже мусульман – правоверных, последователей единственно правильного (с точки зрения ислама) религиозного учения – мусульманского.
Во-вторых, враждебное отношение приверженцев ислама к иноверцам является следствием родоплеменной психологии, свойственной еще древним жителям Аравии. Племя бедуинов традиционно рассматривало само себя в качестве единственного носителя и хранителя абсолютных добродетелей. Для человека традиционного сознания подобное мышление вообще свойственно: его локальная родина (селение, пределы которого он покидает редко и уезжает не слишком далеко) и небольшая социальная группа, частью которой он является, составляют собою (с точки зрения этого человека) микрокосм, замкнутый мир, за пределами которого в прямом смысле ничего нет – пустота. Так же и для члена аравийского племени бедуинов локальный микрокосм состоял исключительно из соплеменников. Все прочие люди для него как бы вовсе не существовали как субъекты правопорядка, они – юридическая пустота. Нечлены племени не охраняются его законами, поскольку находятся за пределами племенного правопорядка.
Умма, созданная по лекалам родоплеменной общины бедуинов, руководствовалась такой же логикой в отношении «внешнего мира» – всех, кто в общину мусульман не входил. Законы ислама (по общему правилу) этих людей не только не охраняли, но вовсе не затрагивали, поскольку мусульманский правопорядок был создан для последователей ислама и только для них. Черта племенной психологии аравийских бедуинов превратилась в характерно уничижительное отношение мусульман по отношению к иноверцам. Хотя справедливости ради стоит сказать, что подобное поведение свойственно не одним лишь последователям Мухаммада, но является закономерным и типичным для множества социальных групп, объединенных по конфессиональному признаку.
Та же самая родоплеменная психология общины отразилась и в воззрениях ранних мусульман на устройство мира. С точки зрения правоверного, земля делится на две части: дар-аль-ислам («земля ислама») – территории, населенные правоверными, и дар-аль-харб («земля войны»), где живут неверные, которых следует завоевать и либо обратить в ислам, либо поработить, но так или иначе подчинить власти мусульман: «Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в Последний день, которые не считают запретным то, что запретили Аллах и Его посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными» (9:29)1.
Помимо «земли ислама» и «земли войны» также существовало понятие «область примирения» («дар-ус-сульх»), или «область договора» («дар-уль-ахд»), которое обозначало земли, населенные народами, подвластными мусульманам (Сюкияйнен, 1986). В Коране упоминается дань, которую должны платить иноверцы, покоренные мусульманами и признавшие над собой политическую власть исламского правителя (Baugh, 2011). С течением времени дань превратилась в подушный налог, называемый «джизья» и взимаемый с взрослых трудоспособных мужчин-иноверцев. Сами немусульмане, платившие джизью и жившие в земле ислама, именовались «зиммиями», то есть находящимися под защитой мусульман. Термин «джизья» условно может быть переведен как «возмещение», а «защита» мусульманской общины подразумевала для иноверцев возможность свободно исповедовать свою веру и пользоваться личной неприкосновенностью и неприкосновенностью имущества: «Не дает вам Аллах запрета о тех, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ, благодетельствовать им и быть справедливыми к ним, – ведь Аллах любит справедливых!» (60:8)2.
Ущерб жизни и имуществу зиммия в юридическом смысле приравнивался к аналогичному вреду, причиненному мусульманину, то есть в данном контексте мы словно бы наблюдаем правовое равенство между мусульманами и зиммиями, однако необходимо отметить, что исламский закон защищал жизнь и имущество немусульманина только в том случае, если между общиной иноверцев и уммой был заключен договор о покровительстве (Hallaq, 2004), который и фиксировал переход данной общины под политическое господство мусульман: «Верующему не подобает убивать верующего, разве что по ошибке. Кто бы ни убил верующего по ошибке, он должен освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп, если только они не пожертвуют им. Если верующий был из враждебного вам племени, то надлежит освободить верующего раба. Если убитый принадлежал к народу, с которым у вас есть договор, то надлежит вручить его семье выкуп и освободить верующего раба. Кто не сможет совершить этого, тому надлежит поститься в течение двух месяцев непрерывно в качестве покаяния перед Аллахом. Аллах – Знающий, Мудрый» (4:92)3 Таким образом, следует заключить, что исламский правопорядок начинает «видеть» иноверца лишь в том случае, если существует специальный договор между общиной мусульман и общиной иноверцев.
Из сказанного выше очевидно вытекает, что священные мусульманские тексты не содержат в себе подробной регламентации жизни иноверцев в земле ислама, не упоминают подробно запрещенного и дозволенного для Людей Писания. Коран и Сунна формулируют лишь общие принципы, «канву» правового взаимодействия мусульман и немусульман по исламскому закону. Сами же иноконфессиональные религиозные общины получают широкую автономию при условии заключения договора с уммой.
Для ислама свобода вероисповедания является важнейшей стороной правового статуса не-мусульманина, поскольку автономия, предоставляемая уммой иноверной религиозной общине, дается той именно для того, чтобы вопросы личного статуса немусульманина регулировались религиозным правом его конфессии. К юрисдикции неисламской общины традиционно относились вопросы брачно-семейные, наследственные и связанные с родством и опекой. С точки зрения мусульманского права (Hamidullah, 1945), личный статус индивида неразрывно связан с религиозной принадлежностью последнего, следовательно, свобода вероисповедания, предоставляемая правителем иноверцам, предполагает и свободу регулирования личного статуса в соответствии с нормами конфессии, к которой тот принадлежит. Так возникает институт автономных религиозных общин, в социально-политической жизни напрямую не связанных с уммой.
Исследователи едины во мнении, что кочевые тюркские племена начали проникать в византийскую Анатолию примерно с X века н. э. Они исламизировались и вместе с религией заимствовали у арабов-мусульман агрессивную экспансионистскую риторику (Sirry, 2011), удобно сочетавшую в себе призывы «нести свет истинной веры» на новые земли, одновременно подчиняя их своему военно-политическому господству (Шукуров, 2001). Исламская религиозная догматика объявляла ведение агрессивной завоевательной войны делом не только моральным, но и богоугодным. В совокупности с относительно простой – на контрасте с иудазимом и христианством – религиозно-философской системой мусульманской религии данное обстоятельство поощряло стремительную исламизацию тюркских племен (Turam, 2007), превращавшихся в источник постоянного беспокойства на границе Восточной Римской (Византийской) империи.
С течением времени граница Византии постепенно смещалась все дальше к западу, а под власть тюркских бейликов (княжеств), разраставшихся до размеров султанатов, попадало все больше бывших подданных ромейского императора, в большинстве своем исповедовавших восточное (ортодоксальное) христианство (Карпов, 2017). Первоначально жизнь иноверцев на присоединенных к «дарь-аль-ислам» территориях концептуально регулировалась совокупностью исламских юридических норм касательно правового положения зиммиев, о котором мы говорили ранее, и ситуативными социальными практиками завоевателей в отношении покоренного населения (Verskin, 2015).
По мере расширения державы османов потребность в более четкой систематизации и упорядочении социальной жизни возрастала. Результатом этого явилось учреждение султаном Мехмедом II Фатихом миллетной системы в 1461 г.
Помимо сугубо практической потребности в регламентации жизни иноверческих общин создание системы миллетов имело своеобразное идеологическое значение. Как известно, население по конфессиональному признаку делилось еще в предшественнице Порты – Восточной Римской империи (Византии). Конфессиональные барьеры, которые можно преодолеть лишь с большим трудом, вообще были характерны для государств домодерного типа, в том числе империй, где общества обладали особенной пестротой и, как следствие, неоднородностью, отсутствием единства, построенного на некоем «культурном стандарте», в большей степени свойственном для модерных национальных государств.
Фатих, завоевав Константинополь в 1453 г. и уничтожив последние осколки Византии, Мо-рейский деспотат (1460 г.) и Трапезундскую империю (1461 г.), стал считать себя наследником Восточной Римской империи и даже принял титул «Kaisar-i Rum» (Кущ, 2013), то есть «римский кесарь (император)». В этом его поддержала часть ромейского духовенства и знати, до 1453 г. принадлежавшие к так называемой туркофильской партии (Успенский, 2013). Лидер туркофилов, Геннадий Схоларий, был возведен в достоинство Вселенского Патриарха, получив знаки своей духовной власти из рук Мехмеда Фатиха (Васильев, 2017). Позже аналогичную процедуру повторили с главным раввином Константинополя и армянским католикосом. Упомянутые духовные иерархи стали, соответственно, главами греко-православного, иудейско-эспаньольского и армяно-григорианского миллетов – религиозных общин. Эти три общины стали первыми милле-тами, заложившими основу всей системы.
В заключение следует сказать, что хотя доктринальные основы исламского права в части регулирования жизни иноконфессиональных общин, безусловно, использовались османским законодателем и существенных отступлений от буквы мусульманского закона, судя по дошедшим до нас данным, старались не допускать, тем не менее, развитие оттоманского общества, в своей основе сложного и неоднородного, с течением времени вынуждало творчески переосмысливать правовую доктрину с целью ее наиболее эффективного воплощения в жизнь с учетом социальных реалий. Результатом такого переосмысления и развития основных идей исламского право- порядка стало создание миллетной системы, превратившейся в оригинальную социальную модель, более-менее адекватную для своего времени и позволявшую сравнительно эффективно решать задачи управления гетерогенным имперским обществом, к чему центральная власть в Константинополе и стремилась. Учитывая, что страны мусульманской правовой семьи по-прежнему существуют и успешно развиваются, мы считаем миллетную систему Османской империи хотя и ушедшей в прошлое, но заслуживающей изучения и дальнейшего внимания в качестве правовой модели взаимодействия людей, исповедующих разные религии, со стороны ученых.
Список литературы Зарождение миллетной системы в Османской империи: правовой плюрализм в условиях гетерогенного общества
- Васильев А.А. Византия и Крестоносцы. Падение Византии. М., 2017. 256 с.
- Карпов С.П. История Трапезундской империи. СПб., 2017. 744 с.
- Кущ Т.В. На закате империи: интеллектуальная среда поздней Византии. Екатеринбург, 2013. 456 с.
- Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М., 1986. 256 с.
- Успенский Ф.И. История Византийской империи. Периоды VI-VIII. М. ; Екатеринбург, 2013. 585 с.
- Шукуров Р.М. Великие Комнины и Восток (1204-1461). СПб., 2001. 448 с.
- Baugh C. An Exploration of the Juristic Consensus (ijma') on Compulsion in the Marriages of Minors // Comparative Islamic Studies. Vol. 5, iss. 1. P. 33-92. https://doi.org/10.1558/cis.v5i1.33.
- Hallaq W.B. Authority, Continuity and Change in Islamic Law. N. Y., 2004. 286 р. Hamidullah M. Muslim Conduct of State. Kashmiri Bazar Lahore, 1945. 370 p.
- Sirry M. The Public Role of DhimmTs During Abbasid Times // Bulletin of SOAS. 2011. Vol. 74, iss. 2. P. 187-204. https://doi.org/10.1017/s0041977x11000024.
- Turam B. Between Islam and the State. Stanford, 2007. 241 p.
- Verskin A. Islam. Law and the Crisis of the Reconquista. The Debate on the Status of Musl. Communities in Christendom Tillier. Leiden, 2015. 243 p. https://doi.org/10.1163/9789004284531.