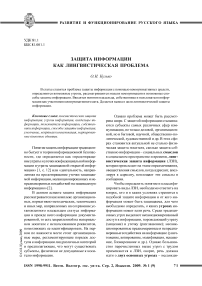Защита информации как лингвистическая проблема
Автор: Кулько Ольга Игоревна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 1 (9), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье ставится проблема защиты информации с помощью коммуникативных средств, определяются возможные угрозы, рассматриваются модели коммуникации и возможные способы защиты информации. Вводятся понятия владельца, собственника и пользователя информации как участников коммуникативного акта. Делается вывод о цели лингвистической защиты информации.
Лингвистическая защита информации, угрозы информации, владельцы информации, пользователи информации, собственники информации, способы защиты информации, умолчание, непрямая коммуникация, маркированные языковые единицы
Короткий адрес: https://sciup.org/14969381
IDR: 14969381 | УДК: 81.1
Текст обзорной статьи Защита информации как лингвистическая проблема
Понятие защиты информации традиционно бытует в теории информационной безопасности, где определяется как «предотвращение утраты и утечки конфиденциальной информации и утраты защищаемой открытой информации» [1, с. 12] или «деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию» [2].
В данном аспекте защита информации рассматривается как комплекс организационных, нормативно-методических, технических и иных мер, направленных на сохранение установленного владельцем статуса информации и прежде всего информации документированной, то есть закрепленной на материальном носителе с использованием реквизитов, позволяющих ее идентифицировать. На первом по важности месте стоят организационные меры, регламентирующие порядок доступа к информации лиц различных категорий и предполагающие, что могут существовать субъекты, физически не допущенные к носителю информации.
Однако проблема может быть рассмотрена шире. С защитой информации сталкиваются субъекты самых различных сфер коммуникации, не только деловой, организационной, но и бытовой, научной, общественно-политической, художественной и др. В этих сферах становится актуальной не столько физическая защита носителя, сколько защита собственно информации – социальных смыслов в социальном пространстве и времени, лингвистическая защита информации (ЛЗИ), которая происходит на этапе опредмечивания, овеществления смыслов, когда адресант, апеллируя к адресату, воплощает эти смыслы в сообщении.
Чтобы определить понятие и классифицировать виды ЛЗИ, необходимо ответить на вопрос, кто и в каких условиях стремится к подобной защите информации и от кого информация может быть защищаема, для чего необходимо определить, о каких угрозах информации может идти речь. Среди традиционных угроз выделяют несанкционированный доступ к информации, порождающий утрату (хищение) и утечку (разглашение); несанкционированные преднамеренные и непреднамеренные воздействия на информацию (уничтожение, копирование, модификация, искажение, блокирование и др.). Однако большинство перечисленных выше угроз с трудом применяются к ЛЗИ, скорее, речь должна идти о двух основных угрозах – несанкци- онированного распространения информации и нарушения прав собственника на владение и распоряжение информацией. Понимая под распространением расширение круга пользователей информацией и намеренно исключая из сферы нашего внимания утечку и разглашение, которые являются частными случаями распространения, уточним, что нас интересует ситуация, изначально предполагающая возможность физического доступа к тексту, содержащему защищаемую информацию, различных, в том числе и нежелательных пользователей/субъектов коммуникации. В коммуникативную модель включается третий субъект – участник или наблюдатель, который, имея доступ к тексту, не должен, по замыслу основных участников, получить информацию или использовать ее. Это является важнейшим условием реализации ЛЗИ.
В случае угрозы распространения информации коммуникативная модель выглядит следующим образом: владелец информации (коммуникант, обладающий правами на обработку информации и ее защиту), реализуя ЛЗИ, формирует сообщение для пользователя (коммуниканта, имеющего право доступа к информации) с учетом реального или потенциального присутствия третьего субъекта коммуникации, не наделенного правами доступа к информации.
В случае угрозы нарушения прав собственника на владение и распоряжение информацией модель коммуникации имеет следующий вид: собственник информации (коммуникант, определяющий значимость информации и обладающий правами на любые действия с информацией) формирует сообщение для пользователей, требуя от них соблюдения мер защиты предоставляемой информации. Коммуникативная модель с учетом угрозы несанкционированных преднамеренных и непреднамеренных воздействий на информацию предполагает, что передаваемая информация не является секретной. При формировании сообщения владелец информации определенным способом маркирует ее, тем самым защищая свои права на нее и ее целостность.
Представляется, что ЛЗИ может осуществляться следующими способами: избеганием темы (умолчанием), средствами непря- мой коммуникации [3], маркированием языковых или текстовых единиц.
Умолчание. Известно правило теории информационной безопасности о том, что меньше всего подвержена утечке и утрате недокументированная информация. В аспекте ЛЗИ недокументированная информация предстает как означаемое без означающего – смысл, который может существовать в сознании человека, но который не озвучивается в коммуникации.
В любом обществе, социальной группе, у любого отдельного человека есть ряд табуируемых по разным причинам тем. Отсутствие коммуникации по данной теме есть свидетельство прежде всего неактуальности темы в системе ценностей, обсуждение темы – признак ее значимости в социуме. Наложение запрета на распространение информации конвенционально и идет по линии «принято – не принято». Хорошим примером может служить тема секса в Советском Союзе (известный прецедентный текст, очень верно характеризующий отношение социума к данной теме, – высказывание участницы телемоста « В Советском Союзе у нас секса нет »): это не обсуждалось ни публично, ни приватно, так как в обществе, построившем развитой социализм и строящем коммунизм, говорить о субутилитарных ценностях было не принято. Обратную ситуацию можем наблюдать в настоящее время: анализ текстов рекламного дискурса показывает, что ведущими являются утилитарные («Даниссимо» – весь мир подождет! ) и субутилитарные ( Проголодался? Не тормози, сникерсни! ) ценности.
Другой причиной наложения табу на тему является страх перед данной темой (часто табуируемые темы – смерть, болезнь, возраст). Здесь работают механизмы наиболее древней части человеческого сознания, предполагающие возможность магического влияния слова на действительность. Защитив таким образом информацию, человек защищает себя. Если «овеществление» информации приводит к возникновению нежелательной ситуации в реальности, то произнесения слова (обсуждения темы), которое с этой точки зрения является началом отсчета ситуации, надо избегать.
Однако в аспекте ЛЗИ известное правило перестает действовать безусловно. Внимательный анализ функционирующих в социуме текстов неизбежно выделит как актуальные темы, так и табуируемые, а социально заданный навык интерпретации поможет выявить то, что необходимо защитить. Так, во время массовых арестов 30-х гг. отказ НКВД дать родственникам информацию об арестованном человеке означал, что следствие еще идет. Когда следствие заканчивалось и выносился приговор, информация об этом, как правило, доводилась до родственников.
Средства непрямой коммуникации , базирующиеся на взаимодействии языкового значения и смысла.
Владелец информации продуцирует текст исходя из того, что в содержании текста пользователь выделит два плана: открытый – буквальный, отражающий систему внешних значений языковых единиц, и защищаемый – внутренний, выводимый из внешнего по определенным правилам. При этом возможны ситуации множественности внутренних планов, предполагаемых или не предполагаемых владельцем информации. Важными являются категории пароля и сигнала к перекодировке, которыми могут служить как отдельная языковая единица или набор языковых единиц, жанр текста, так и ситуативные характеристики коммуникативного события (изменения, происходящие в нем, единицы невербальной коммуникации и пр.).
В этом аспекте ЛЗИ, базируясь на способности языкового знака приобретать контекстно обусловленные смыслы, сопрягается с текстовыми категориями – адресованности, понятности, ясности и интерпретируемости.
Примером использования средств непрямой коммуникации в целях ЛЗИ могут служить тексты административного дискурса, функционирующие преимущественно в письменном виде. Важнейшее требование к таким текстам – использование официальноделового стиля. Хрестоматийное утверждение функциональной стилистики о том, что официально-деловой документ должен быть понят и правильно интерпретируем каждым, в прагматическом аспекте теряет свою истинность: любой документ есть отражение интересов определенной социальной группы;
заданная социумом необходимость эксплицировать и документально закреплять информацию вступает в противоречие с потребностью владельца информации «сохранять лицо». Выходом из создавшейся ситуации является непрямая коммуникация; актуальный смысл порождаемых текстов с легкостью должен выводиться членами той же социальной группы. Правила интерпретации, не будучи чисто языковыми, приобретают конвенциональный характер.
К любому агенту институтом предъявляются требования владения методами ЛЗИ; знание методов ЛЗИ является признаком принадлежности коммуниканта институту. Так, в повести Бел Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз» учительница с большим опытом объясняет не понимающей «местного» языка Сильвии: « Пусть это вдохновит вас на подвиг» значит, что Вы увязли по горло. «Личные взаимоотношения» – драка учеников. «Вспомогательное укрепление дисциплины» – вызов полиции. «Литература, соответствующая читательскому уровню ученика на основе экспериментальных исследований» – все, что удается достать в нашей библиотеке. «Не склонный к умственному труду ученик» – ученик с преступными наклонностями. А «До моего сведения дошло» значит, что Вам грозят неприятности . Усвоение формул приводит к адаптации в новой социальной группе.
Маркирование единиц текста.
Маркирование рассматриваем как употребление авторских лексических единиц – терминов, окказионализмов и пр. Этот способ защиты информации актуален для тех сфер, где существует угроза нарушения прав собственника на владение и распоряжение информацией, прежде всего в сферах научного и художественного дискурсов.
Введение нового термина для обозначения уже существующего в науке понятия перераспределяет смысловые акценты в понятии и приводит к его трансформации (например, изменению его объема, или содержания, или объема и содержания), позволяя тем самым закрепить информацию за определенным коммуникантом – автором научной теории. Примером может слу- жить термин «микротекст», введенный в теорию текста профессором Н.С. Ковалевым и применяемый к грамматической единице текста [4; 5]. Отвергая более или менее традиционные термины «сверхфразовое единство», «сложное синтаксическое целое» и пр. и вводя новый, автор выделяет то, что мельчайшая строевая единица текста должна отвечать большинству требований, предъявляемых к тексту, а именно тематичности, связности, информативности, целостности и т. д.
Публикация научного текста – свидетельство открытости информации, а также свидетельство закрепления этой информации за автором. Коммуниканты, к которым обращен этот текст – научное сообщество, имеют право использовать эту информацию, но определенным, предписанным традицией образом: при употреблении маркированных единиц необходимо ссылаться на авторство и оформлять цитаты.
Однако освоение термина научным сообществом приводит к тому, что авторский термин уже не ощущается маркированным, новое поколение исследователей воспринимает его как всегда существовавший, вследствие чего рано или поздно традиция ссылок нарушается. По-видимому, это происходит на наших глазах с таким, например, термином, как «языковая личность» Ю.Н. Караулова. Образование на базе этого термина и по его модели терминов «языковая личность предпринимателя (преподавателя, президента и пр.)», «коммуникативная личность», «дискурсивная личность» и т. д.; обилие работ, в которых идеи Ю.Н. Караулова развиваются, конкретизируются или дискутируются, – все это говорит о прочном вхождении этого термина в систему лингвистической лексики. Можно прогнозировать полное его освоение и отказ от указания авторства при изменении парадигмы в языкознании.
Осознание ЛЗИ как необходимости.
Насколько субъект коммуникации осознает необходимость защиты информации, насколько целенаправленно он действует? Предполагаем, что в разных ситуациях степень осознания будет различной, следовательно, текст с ЛЗИ может быть охарактеризован одним из признаков, расположенных на шкале
«интенционально» – «конвенционально». Градация признаков связана с величиной группы, диктующей требования к ЛЗИ. Так, если тема осознается всем обществом как неак-туальная/неприемлемая для коммуникации, то можно говорить о конвенциональной ЛЗИ, при которой абсолютное большинство членов социума не замечает самого факта неупотребления темы – и ЛЗИ. Менее конвенциональной ЛЗИ будет в упомянутой выше ситуации, в которую попадает героиня Бел Кауфман: социальная группа – администрация школы, не употребляя в своих циркулярах конкретную лексику и используя метафоры, литоты и пр., целенаправленно стремится избежать распространения негативной информации и тем самым «сохранить лицо». Тем не менее использование формул – это не их личное изобретение, так принято в данной сфере, поэтому полностью интенциональной ЛЗИ не является.
Думается, говорить об однозначно интенциональной ЛЗИ можно тогда, когда в художественном дискурсе создается текст-загадка, который, будучи предъявленным читателю-интерпретатору, дает возможность коммуникантам участвовать в соревновании, игре.
Заканчивая статью, необходимо определить цель ЛЗИ. Как представляется, основная цель ЛЗИ в любой коммуникативной сфере – поддержка групповой идентичности. Задачи и средства ЛЗИ конкретизируются в зависимости от социальных условий коммуникации: сферы (коммуникативной) деятельности, характеристик ситуации; интенций коммуникантов и пр.
Список литературы Защита информации как лингвистическая проблема
- Алексенцев, А. И. Сущность и соотношение понятий «защита информации», «безопасность информации», «информационная безопасность»/А. И. Алексенцев//Безопасность информационных технологий. -1999. -№ 1. -С. 12-18.
- ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определения. -Режим доступа: http://www. protect. gost. ru/document. aspx?control =7&id=129024.
- Дементьев, В. В. Непрямая коммуникация и ее жанры/В. В. Дементьев. -Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2000. -246 с.
- Ковалев, Н. С. Древнерусский литературныйтекст: Проблемы исследования смысловой структуры и эволюции в аспекте категории оценки/Н. С. Колев. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. -179 с.
- Ковалев, Н. С. Древнерусский летописный текст: принципы образования и факторы эволюции (на материале Галицко-Волынской летописи)/Н. С. Ковавалев. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1997. -260 с.