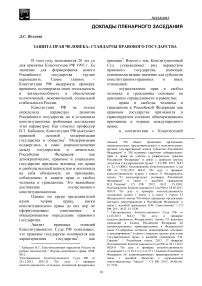Защита прав человека: стандарты правового государства
Автор: Велиева Д.С.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Доклады пленарного заседания
Статья в выпуске: 3 (33), 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142232440
IDR: 142232440
Текст статьи Защита прав человека: стандарты правового государства
В этом году исполняется 20 лет со дня принятия Конституция РФ 1993 г. Ее значение для формирования нового Российского государства трудно переоценить. Самое главное – Конституция РФ выдержала проверку временем, подтвердила свою эпохальность и жизнеспособность в обеспечении политической, экономической, социальной стабильности России.
Конституция РФ не только определила параметры развития Российского государства, но и установила конституционные требования достижения этих параметров. Как отметил профессор В.Т. Кабышев, Конституция РФ выступает правовой основой модернизации государства и общества3. Модернизации подверглись и сами взаимоотношения между государством и личностью. Российская Федерация как демократическое, правовое и социальное государство признала человека, его права и свободы высшей ценностью и возложила на себя обязанность по признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина. Это важнейшее достижение отечественного конституционализма.
Однако ни среди представителей науки теории права, науки конституционного права до сих пор не сформулировано однозначное и общепризнанное определение правового государства.
Анализ правовых позиций Конституционного Суда РФ показывает, что правовое государство понимается как характеристика государства4, как принцип5. Вместе с тем, Конституционный Суд устанавливает ряд параметров правового государства, имеющих основополагающее значение для субъектов конституционно-правовых и иных отношений:
осуществление прав и свобод человека и гражданина основано на принципах справедливости и равенства;
права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации как правовом государстве признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного права;
в соответствии с Конституцией законов "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы" // СЗ РФ. 2012. №53 (ч. 2). Ст.8062; Постановление Конституционного Суда РФ от 27.03.2012 №8-П "По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 23 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина И.Д. Ушакова" СЗ РФ. 2012. №15. Ст.1810; Постановление Конституционного Суда РФ от 18.05.2011 №9-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 1 части 4 и части 5 статьи 35 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина Н.М. Савостьянова" // СЗ РФ. 2011. №22. Ст.3239.
Российской Федерации права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов и обеспечиваются правосудием (ст.ст.1, 2, 17 и 18);
в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина (ст.55, ч.2);
ограничение прав и свобод человека и гражданина федеральным законом допускается лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст.55, ч.3)6.
Обращение к правовым позициям Конституционного Суда в этом вопросе – это необходимость. Как справедливо отметил судья Конституционного Суда Н.С. Бондарь, «…через конституционное правосудие происходит "оживление" социально-политической сущности Конституции РФ»7. Следовательно, для выяснения сути проблем формирования правового государства правовые позиции Конституционного Суда имеют основополагающее значение.
Общепринято, что права и свободы человека являются важнейшей ценностью правового государства, а эффективность их реализации, степень гарантированности свидетельствуют об уровне развития такого государства.
Вышеизложенные правовые позиции Конституционного Суда о правовом государстве в контексте осуществления прав и свобод человека особо актуальны в свете соблюдения международных правовых стандартов. К этому нас обязывает ст.17 Конституции, в соответствии с которой права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации признаются и гарантируются не только согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. Особое значение данная норма приобретает во взаимосвязи с ч.4 ст.15 Конституции, где установлен порядок взаимодействия международного и внутригосударственного права: общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
В связи с этим возникает вопрос о соотношении национального и международного права. В какой степени Россия как правовое государство должна учитывать международные нормы и стандарты по вопросам защиты прав человека? Как они должны соотноситься с национальными стандартами, выработанными национальными судами?
В этом смысле показательной является правовая позиция Конституционного Суда по рассмотрению жалобы К.А. Маркина в связи с отказом в предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет8.
Суть жалобы заключалась в том, что К.А. Маркину, проходящему военную службу по контракту, было отказано в предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет на основании того, что действующее законодательство предусматривает предоставление отпуска по уходу за ребенком только военнослужащим женского пола. Заявитель счел оспариваемые им нормативные положения

дискриминационными и препятствующими осуществлению военнослужащими мужского пола, проходящими военную службу по контракту, права на воспитание своих детей.
Какую позицию занял Конституционный Суд? По мнению судей Конституционного Суда, не допускается совмещение военнослужащими мужского пола, проходящими военную службу по контракту, исполнения служебных обязанностей и отпуска по уходу за ребенком для воспитания малолетних детей, что, с одной стороны, обусловлено спецификой правового статуса военнослужащих, а с другой - согласуется с конституционно значимыми целями ограничения прав и свобод человека и гражданина (ст.55, ч.3, Конституции Российской Федерации) в связи с необходимостью создания условий для эффективной профессиональной деятельности военнослужащих, выполняющих долг по защите Отечества.
В обосновании своей позиции Конституционный Суд отметил, что военная служба в силу предъявляемых к ней специфических требований исключает возможность массового неисполнения военнослужащими своих служебных обязанностей без ущерба для охраняемых законом публичных интересов. Отсутствие у военнослужащих мужского пола, проходящих службу по контракту, права на отпуск по уходу за ребенком не может рассматриваться как нарушение их конституционных прав и свобод, в том числе гарантированного ст.38 (ч.2) Конституции РФ права на заботу о детях и их воспитание. Кроме того, данное ограничение согласуется с добровольным характером заключения контракта о прохождении военной службы.
Определяющим фактором, как мы видим, в данном случае выступили публичные интересы.
Обратимся теперь к позиции Европейского суда по правам человека9.
Европейский Суд согласился с тем, что с учетом важности армии для защиты национальной безопасности отдельные ограничения по предоставлению отпуска по уходу за ребенком могут быть оправданы. Но при этом акцентировал следующее - если они не являются дискриминационными. С точки зрения Европейского Суда, существуют другие средства достижения законной цели защиты национальной безопасности, чем ограничение предоставления отпуска по уходу за ребенком военнослужащим-женщинам или лишение всех военнослужащих возможности его получения.
Европейский Суд полагает, что с учетом фундаментальной важности запрещения дискриминации по признаку пола не может считаться приемлемым, чтобы лица, подписавшие отказ от своих прав, могли подвергаться дискриминации, поскольку это будет противоречить важным публичным интересам.
Недопущение использования отпуска по уходу за ребенком военнослужащими-мужчинами, в то время как военнослужащие-женщины имеют на него право, не может быть разумно или объективно оправдано. Европейский Суд указал, что различие в обращении, которому подвергся заявитель, должно быть приравнено к дискриминации по признаку пола.
Одно дело, одна жалоба – но диаметрально противоположные решения. Если Конституционный Суд исходил из необходимости обеспечения публичных интересов, то для Европейского Суда определяющим критерием выступили права человека, иными словами – частные интересы.
Такое решение Европейского Суда вызвало неоднозначную реакцию среди юристов, политиков, судей
Федерации" (жалоба №30078/06) // По делу обжалуется отказ национальных властей в предоставлении трехлетнего отпуска по уходу за ребенком. По делу нарушены требования ст.14 во взаимосвязи со ст.8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2012. №6.
Конституционного Суда. Так, Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин указал, что Европейский Суд, в отличие от национальных судов, не находится в постоянном диалоге с парламентом, в процессе законодательной деятельности которого задействован сложный демократический механизм учета культурных, психологических, идейных и религиозных факторов, представляющих собой, по сути дела, учет и согласование различных социальных интересов по принципу формального равенства: когда реализация одних интересов возможна в той мере, в какой она не препятствует реализации других. Это способно вызывать сопротивление таким решениям Европейского Суда10.
Однако следует напомнить, что в силу п.1 ст.46 Конвенции о защите прав человека и основных свобод Российская Федерация как участник Конвенции обязуется исполнять окончательные постановления Суда по делам. Такие обязательства Россией были взяты добровольно. Выполнение постановлений, касающихся Российской Федерации, предполагает, в случае необходимости, обязательство со стороны государства принять меры частного характера и меры общего характера. Суды, в том числе Конституционный Суд, в пределах своей компетенции должны действовать таким образом, чтобы обеспечить выполнение обязательств государства, вытекающих из участия Российской Федерации в Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Между тем, дело Маркина вызвало серьезное недовольство в России. В частности, Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин в примечательно названной статье «Предел уступчивости», отметил: "Если нам навязывают внешнее «дирижирование» правовой ситуацией в стране, игнорируя историческую, культурную, социальную ситуацию, то таких «дирижеров" надо поправлять. Иногда самым решительным образом»11.
Остается только решить: каким образом следует «поправлять» зарвавшихся «дирижеров» из Европейского Суда. Отказаться от выполнения взятых на себя обязательств? Странно слышать такие высказывания из уст человека, представляющего систему конституционного правосудия в России.
Еще более странным нам представляется законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», внесенный членом Совета Федерации А.П. Торшиным. Данный документ предполагает, что в случае вынесения Европейским судом по правам человека постановления о несоответствии российского законодательства нормам Европейской конвенции о правах человека исполнить данное постановление ЕСПЧ можно будет только при наличии согласия Конституционного Суда РФ. Если Конституционный Суд признает, что тот или иной российский закон соответствует Конституции, то исполнение постановления ЕСПЧ будет заблокировано.
Здесь нужно заметить, что российские власти решили спорить с отцом-одиночкой до конца и воспользовались ст.43 Конвенции ("Передача дела в Большую палату"). В результате, 17 судей Большой Палаты подтвердили свою прежнюю позицию: "Действие Конвенции не заканчивается у ворот военной части". По мнению ЕСПЧ, правительство страны-ответчика не предоставило никаких доказательств (статистика, исследования и т.д.) того, что число мужчин-военнослужащих в России, которые могут и хотят воспользоваться правом на долгосрочный отпуск по уходу за ребенком, настолько велико, что ставит вопрос о реальном снижении обороноспособности. Тот аргумент, что все в армии находятся в "репродуктивном возрасте", не оправдывает различия в отношении к служащим разных полов.
Зададим себе вопрос: а сами-то
судьи Конституционного Суда РФ верят в то, что предоставление отпуска по уходу за ребенком военнослужащим мужского пола резко «подорвет» боеспособность российской армии? Вопрос, конечно, риторический. Так стоит ли из соображений «квасного патриотизма» создавать из России образ государства, не соблюдающего основополагающие права и свободы человека и гражданина? Хотим мы того или нет, но Россия уже интегрировалась в мировое сообщество, и конституционное положение о том, что права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, приобретает реальное содержание.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ
Концепция верховенства права, признанная в настоящее время подавляющим большинством демократических государств в своем содержательном аспекте пока еще оставляет значительный простор для различных доктринальных интерпретаций. Например, как отмечают зарубежные исследователи, весьма остро стоит «проблема лингвистических трудностей для достижения единого понимания верховенства права юристами разных стран и юрисдикций»1. Так, например, в англосаксонских странах для обозначения этого понятия используют термины «Rule of Law», в Германии – «der Rechtsstaat» («правовое государство»), во Франции – «Etat de droit» и «Le principe de legalite et la Suprematie de la Regle de Droit» («принцип законности и верховенство нормы права»). Как отметил вице-президент Международного союза (Содружества) адвокатов П.Д. Баренбойм: «Проблема толкования юристами разных стран понятия “верховенство права” затруднено уже на уровне научного определения этого понятия, мы не можем преодолеть даже лингвистический барьер, понимая верховенство права каждый по-своему»2.
В России наиболее принятым оказался немецкий вариант – правовое государство. Собственно, в тексте Конституции Российской Федерации используется именно этот термин (ч.1 ст.1). Можно по-разному относиться к вопросу о соотношении понятий «верховенство права» и «правовое государство»: в частности, некоторые авторы видят здесь неслучайное смешение терминов, другие полагают данные понятия семантически совпадающими. Следует согласиться, что дело здесь не в терминологических отличиях, а в том, каким содержанием наполняются данные понятия. «Суть верховенства права заключается в том, что это единственная система, придуманная человечеством для обеспечения полного контроля за государственной властью. Это означает, что каждый гражданин данного государства, включая Президента, а также все государственные институты, включая вооруженные силы, правоохранительные органы и полицию, подчинены закону»3.
В основе концепции правового государства также находится идея «связанности» власти правом. Правовое государство – это государство, поставленное «под контроль права»4, государство, которое «признает обязательным для себя как правительства