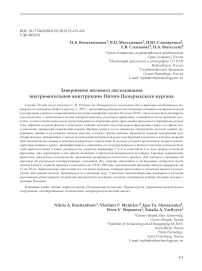Завершение полевого доследования внутримогильной конструкции пятого Пазырыкского кургана
Автор: Константинов Н.А., Мыльников В.П., Слюсаренко И.Ю., Степанова Е.В., Васильева Н.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.
Бесплатный доступ
Спустя 70 лет после раскопок С.И. Руденко на Пазырыкском могильнике было признано необходимым повторное исследование Пятого кургана. С 2017 г. проводятся работы по доследованию остатков внутримогильной конструкции, а также осуществляется изучение периферии кургана. В сезоне 2019 г. была полностью расчищена могильная яма, в заполнении и на дне которой выявлены различные предметы, оставшиеся после прежних раскопок: кости и части туш коней, куски берестяного покрытия сруба, фрагменты бронзовых и деревянных резных блях, обрывки золотой фольги и войлочных изделий, включая многочисленные фрагменты ковра «со сфинксом» и войлочных украшений снаряжения лошади. Внутри сруба и за его стенками обнаружены роговой заступ, деревянные лопата и колотушка, детали повозки, а также другие изделия. Проведена полевая консервация всех обнаруженных артефактов. С целью исследования внутримогильных конструкций извлечены и изучены внешний сруб погребальной камеры и остатки надсрубных сооружений. В полевых условиях произведена экспресс-реконструкция внешнего сруба с фотофиксацией и описанием его конструктивных и технологических особенностей. Сруб прямоугольный в плане, размером по нижнему периметру 7 х 4 м и высотой 2 м, имел форму усеченной пирамиды, что характерно и для других подобных сооружений пазырыкской культуры. Хорошая сохранность древесины обеспечила возможность проведения дендрохронологического анализа, для которого отобрано 40 образцов от различных конструктивных элементов. Все образцы относятся к лиственнице сибирской (Larix sibirica Ledeb.); возраст деревьев колеблется от 150 до 260 лет, максимальный диаметр стволов варьирует от 15 до 50 см. Зафиксирован один и тот же год валки деревьев, которая происходила в холодный период (осенью-зимой либо ранней весной). Проведенное доследование кург. 5 показало перспективность повторного изучения раскопанных ранее царских погребений пазырыкской культуры, включая оставшиеся четыре больших кургана в урочище Пазырык.
Алтай, скифское время, пазырыкский могильник, пятый курган, деревянные погребальные сооружения, конструктивные особенности, дендрохронологический
Короткий адрес: https://sciup.org/145145573
IDR: 145145573 | УДК: 903.074 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.415-424
Текст научной статьи Завершение полевого доследования внутримогильной конструкции пятого Пазырыкского кургана
Исследование пяти больших курганов скифского времени на Пазырыкском могильнике, проведенное в 1929 и 1947–1949 гг. археологами М.П. Грязновым и С.И. Руденко, имело большое значение для изучения культур ранних кочевников Евразии. Благодаря подкурганной мерзлоте в царских погребениях Па-зырыка сохранились прекрасные комплексы сопроводительных вещей из органических материалов, мумифицированные тела самих погребенных и даже мерзлые трупы коней [Грязнов, 1950; Руденко, 1953]. В большинстве памятников такие предметы, как правило, почти не сохраняются. Несмотря на то что основные погребения в этих курганах были полностью раскопаны, применявшаяся в те годы методика полевого изучения памятников делает вполне оправданным и перспективным повторное исследование объектов. С 2017 г. на кург. 5 могильника Пазырык проводятся работы по доследованию самого кургана, а также осуществляется изучение его периферии [Константинов и др., 2018а, б]. В сезоне 2019 г. была полностью доследована могильная яма; расчищены, извлечены и изучены внешний сруб погребальной камеры и остатки надсрубных сооружений; проведена полевая консервация всех обнаруженных артефактов; отобрана коллекция образцов для дендрохронологического анализа. Символично, что в 2019 г. исполнилось ровно 90 лет с начала исследований М.П. Грязнова на Пазырыкском могильнике и 70 лет со времени раскопок С.И. Руденко собственно Пятого кургана.
Результаты исследования
Могильник Пазырык находится вблизи с. Ба-лыктуюль Улаганского р-на Республики Алтай в одноименном урочище, представляющем собой сухой лог. Лог состоит из двух террасовидных уступов. В южной части верхнего (северного) уступа располагаются четыре больших кургана, рядом с которыми находится целый ряд ритуальных конструкций и небольших курганов скифского времени, а также несколько объектов более поздних эпох. На нижней (юго-во сточной) площадке находится большой кург. 5, который является планиграфическим центром этой части могильника. Рядом с ним размещаются также различные археологические объекты, относящиеся как к скифскому времени, так и к последующим периодам. Топографическое расположение и планиграфия могильника отличаются некоторым своеобразием в сравнении с классической схемой расположения курганных комплексов пазырыкской культуры. Обычно курганные могильники этой культуры образуют цепочки, ориентированные по линии север – юг, и располагаются на открытых участках долин. Могильник Пазырык же, напротив, расположен в укромном закрытом урочище, с трех сторон огражденном горами, а с южной стороны находится довольно крутой склон в долину р. Большой Улаган.
Раскопки курганов, о существленные в XX в., велись лишь с частичной разборкой насыпей, обеспечивающей доступ непосредственно к могильной яме. Курган 5 исследовался через глухую тран- шею с южной стороны, отвал насыпан в стороны от раскопа на насыпь кургана и вокруг южной его половины. Полностью под отвалом из камней оказались четыре южных вытянутых выкладки-луча. Вероятно, под отвалом с южной стороны кургана 5 также находятся лучи и некоторые объекты гунносарматского времени. Стены раскопа 1949 г. сильно осыпались. На дне образовавшейся воронки до начала наших работ собиралась вода, что свидетельствовало о наличии подкурганной мерзлоты. Внутри воронки были видны следы пребывания скота, который заходит в раскоп на водопой, поскольку других источников воды в урочище нет. Прослеживались торчащие из камней, засыпавших раскоп, верхние части двух толстых деревянных столбов – опор деревянного навеса над перекрытием погребения и другие, более тонкие бревна. Фрагменты бревен также были навалены в южной части раскопа 1949 г. и к юго-юго-западу и западу от кургана.
Насыпь кург. 5 в настоящее время имеет высоту около 3,5 м, при этом часть насыпи составляют отвал из раскопа 1949 г. и камни, набросанные при ограблении кургана. Диаметр насыпи кургана – около 40 м. Прежде чем приступить к доследованию ямы, была произведена расчистка подхода к могильной яме. Для этого были перемещены навалы грунта, валунов и бревен с площади старого раскопа, а также убраны отвалы, насыпанные у южной полы кургана. В 2018 г. начата расчистка воронки на месте могильной ямы (рис. 1). Работы велись в основном в пределах границ старого раскопа. За один сезон не удалось довести расчистку до дна могильной ямы, поскольку нижняя часть заполнения оказалась сильно промерзшей, а на дне ямы обнаружилось скопление больших валунов, сброшенных сюда в ходе прежних раскопок с северной части перекрытия. Раскоп был законсервирован, деревянные детали обернуты полиэтиленом и обложены мешками с грунтом.

Рис. 1. Начало доследования кург. 5 на могильнике Пазырык в 2018 г.
1 – могильная яма до начала вторичных раскопок; 2–4 – исследование заполнения могильной ямы.
В следующем сезоне, в 2019 г., была продолжена и завершена расчистка заполнения могильной ямы (рис. 2). Рядом с отвалом, к юго-западу от каменной насыпи кургана сооружена рабочая площадка для консервационной и технологической обработки бревен сруба (рис. 3). При помощи грузоподъемного крана произведена выемка валунов, мешавших завершению доследования ямы, и остатков деревянного внутримогильного сооружения (рис. 3, 3 ).
Еще до начала наших работ в самой низкой части дна воронки скапливалась вода на глубине около 2 м от уровня современной поверхности. При выборке заполнения ямы вода продолжала поступать в раскоп, но не на прежний уровень, а значительно ниже. На глубине около 3 м от современной поверхности по углам сруба начал фиксироваться мерзлый грунт. Откачивание воды производилось при помощи мотопомпы дважды в день: утром и во второй половине дня. Благодаря мерзлоте деревянные части конструкции и оставшиеся после раскопок предметы из органики имели прекрасную сохранность.
Глубина могильной ямы составляла около 4 м, уровень дна западной половины ямы был ниже восточной части. Яма имела подпрямоугольную форму, размеры ямы в верхней части изначально составляли 8,25 × 6,65 м, ко дну яма значительно сужалась. В ходе повторных раскопок установлено, что часть двухсрубного внутримогильного погребального сооружения в виде внешнего сруба и столбов-опор для навеса над перекрытием срубов были оставлены практически in situ . При исследовании могильной ямы в 1949 г. отпилены концы трех верхних венцов западной и северной стенок в северо-западном углу сруба (находятся на хранении в Эрмитаже), а также для облегчения доступа в лошадиный отсек в северной части ямы выпилены все бревна северной стены на б o льшую часть их длины. Два столба-опоры у южной стены (центральный и югозападный), хотя и стояли на своем месте, оказались в значительной степени приподнятыми со дна ямы. Вероятно, в ходе раскопок С.И. Руденко предпринимались попытки извлечь эти столбы.

Рис. 2. Доследование кург. 5 на могильнике Пазырык в 2019 г.
1 – законсервированный на зиму сруб; 2 – раскопки в условиях тающей подкурганной мерзлоты; 3 – огромные валуны в заполнении;
4 – извлечение валунов из ямы.

Рис. 3. Доследование могильной ямы и внешнего сруба в кург. 5 могильника Пазырык и подготовка рабочей площадки в 2019 г.
1 , 2 – рабочая площадка и консервационная обработка бревен внешнего сруба; 3 – использование вспомогательной техники при извлечении особо крупных валунов из могильной ямы; 4 – применение вспомогательной техники при возведении стен во время экспресс-реконструкции внешнего сруба.
Изучение и разборка внешнего сруба осуществлялись в соответствии с разработанной и в течение многих лет апробированной методикой полевого изучения деревянных погребальных сооружений [Мыльников, 2012а, с. 101–105; 2012б]. Вначале производилась выемка заполнения внутри сруба. Потом зачистка внутренних поверхно стей стен и внешних поверхностей бревен с последовательной разборкой венцов, их разметкой и транспортировкой на рабочую площадку для предварительной очистки и обработки консервирующими растворами.
Параллельно проводилась фотофиксация особенно стей вязки бревен в каждом углу сруба. При извлечении из ямы бревна маркировались в соответствии с номером венца, обозначенным зарубками пазырыкских плотников, и расположением стены сруба относительно сторон света. Нумерация венцов велась при демонтаже, так же как и древними мастерами, начиная с нижнего. После извлечения бревна раскладывались на подготовленной площадке по порядку в группы, в соответствии с принадлежностью к той или иной стене для удобства и быстроты повторной сборки.
На заранее подготовленной ровной площадке рядом с курганом в течение светового дня была произведена полная экспресс-реконструкция сруба. По скольку стены сруба имели значительную высоту, сборка до пятого венца выполнялась вручную, а начиная с шестого венца при помощи автокрана (рис. 3, 4 ). После повторного возведения сруба на рабочей площадке проведены вторичное технико-технологическое изучение и фотофиксация всех составляющих погребальной деревянной конструкции, осуществлены технологический реставрационный анализ и предварительная обработка бревен консервирующими растворами (рис. 4, 1–3 ), а также отобрана коллекция образцов древесины для дендрохронологического анализа (рис. 4, 4 ).
Как уже отмечалось выше, внешний сруб погребальной камеры Пятого Пазырыкского кургана сохранился не полностью. Отсутствовало перекрытие потолка, кроме того, во время раскопок 1949 г. были выпилены северная стена и почти на треть северные концы трех верхних бревен западной стены. Сруб прямоугольный в плане, с заметным сужением всех стен к верху, так что в профиль стены имели подтрапециевидную форму. В целом срубу была придана форма усеченной пирамиды (рис. 5), что характерно и для других подобных исследованных сооружений пазырыкской культуры [Мыльников, 2008, с. 61]. Размеры сруба по нижнему периметру составляли 7 × 4 м, высота 2 м. Таким образом, общая площадь сруба – 28 м². На каждом бревне стен сруба имелись ряды неглубоких зарубок лезвием тесла – повенцовая разметка пазырык-скими строителями при первоначальном возведении сруба. Угловая вязка бревен велась «в обло»

Рис. 4. Дополнительные исследования в процессе экспресс-реконструкции внешнего сруба из кург. 5 могильника Пазырык.
1 , 2 – технико-технологическая атрибуция стен сруба; 3 – консервационно-реставрационная атрибуция бревен внешнего сруба; 4 – отбор образцов от бревен сруба для дендрохронологических исследований.

Рис. 5. Итог экспресс-реконструкции внешнего сруба из кург. 5 могильника Пазырык в Горном Алтае.
1 - вид сруба со стороны южной стены; 2 - вид сруба со стороны северной стены. Стоят (слева направо): Чой Чжон-Хун, Чон Ги-Пом (студентки Корейского гос. ун-та культурного наследия); С. Юрина (студентка Горно-Алт. гос. ун-та); С. Филатова (волонтер); канд. ист. наук Н.А. Константинов; С. Назаров (волонтер); Д. Мамаева, Р. Джигота (студенты Горно-Алт. гос. ун-та); канд. ист. наук Е.В. Степанова; канд. ист. наук Н.А. Васильева; Е. Тыбыкова (студентка Горно-Алт. гос. ун-та); В. Васильев (волонтер/реконструк-тор). Сидят (слева направо): канд. ист. наук И.Ю. Слюсаренко; А. Асканаков (крановщик); Р. Куюков (студент Горно-Алт. гос. ун-та);
А.В. Борисов; д-р ист. наук В.П. Мыльников.
с увеличивающимся остатком концов, после попеременной укладки пар бревен – коротких поперечных и длинных продольных – в глубокие вырубы чашек углового сопряжения у торцов бревен.
Хорошая сохранность древесины внутримогиль-ных погребальных конструкций в Пятом Пазырык-ском кургане обеспечила возможность проведения дендрохронологических исследований. Пятый курган, так же как и остальные четыре больших кургана могильника, ранее уже неоднократно становился объектом таких исследований [Замоторин, 1959; За-хариева, 1974; Марсадолов, 1988; Слюсаренко, Гар-куша, 1999]. Их результатом стало установление относительной хронологии сооружения пяти «царских» курганов в рамках половины столетия, при этом Пятый курган большинством исследователей был датирован как самый поздний. Казалось бы, тему определения последовательности возведения курганов и временнóй разницы между ними можно считать закрытой. Однако доследование Пятого кургана предоставило уникальный шанс вновь вернуться к древесно-кольцевому методу датирования применительно к древесине из Больших Пазырыкских курганов.
Несмотря на то что памятник стал полигоном для первого применения метода дендрохронологии в отечественной археологической науке, образцы для анализа в конце 1950-х гг. были получены от фрагментов древесины, которые про сто имелись на тот момент в Государственном Эрмитаже и ИИМК АН СССР [Замоторин, 1959, с. 21]. Соответствующие фрагменты деревянных конструкций отбирались в процессе раскопок задолго до дендрохронологического исследования без учета его специфики. Между тем данный метод предъявляет вполне определенные требования к количественному и качественному составу анализируемого древесного материала. Последние работы на памятнике как раз и позволили отобрать материал исходя из методических рекомендаций, тем более что, как показали раскопки, состояние деревянных конструкций было приемлемым как по сохранности, так и по полноте. Хотя необходимо отметить, что в силу вторичности проведенных сейчас раскопок не все обнаруженные конструктивные элементы удалось соотнести с их первоначальным положением из-за того, что в процессе раскопок С.И. Руденко они были перемещены либо деформированы (обрублены, отпилены и пр.) или и то и другое сразу. В первую очередь это относится к бревнам перекрытия внешнего сруба и многослойного наката над ним.
Для дендрохронологического анализа нами отобрано в общей сложности 40 образцов: от 26 конструктивных элементов – в виде спилов, от 14 – в виде кернов. Подавляющее большинство образцов надежно определяется по их месту в конструкции 422
внешнего сруба: от всех 10 венцов северной стенки, от 6 венцов восточной, четырех – западной и четырех – южной. Образцы от перекрытия сруба и многослойного наката над ним (всего 9 экз.) включают как атрибутируемые вполне надежно по оригинальным строительным меткам или концевым вырубам, так и бревна, отнесенные к перекрытию или накату только по своим габаритным характеристикам. Конструкция навеса над срубом, как известно, состояла из 6 столбов-опор и 3 балок-переводин, опирающихся на столбы. К балкам отнесены 2 образца, один из которых происходит из фрагмента бревна, лежащего на юго-восточной балке, что говорит о его первоначальном положении, другой – из фрагмента бревна в заполнении ямы, который определен как балка только гипотетически. Непосредственно от столбов-опор образцы не брались ни в виде спилов (чтобы не нарушать их целостность), ни в виде кернов (поверхно сть древесины в определенной степени деградировала, что означает неизбежную потерю части наружных колец). Тем не менее эти конструктивные элементы также представлены в нашей коллекции. Дело в том, что в заполнении ямы найдены 6 обрубков длиной 0,5–0,7 м от бревен, размер которых не оставляет сомнений, что эти 6 фрагментов были отделены от столбов-опор в процессе их подгонки по высоте уже непосредственно при монтаже всей конструкции в яме. От 5 таких обрубков взяты спилы.
В настоящее время коллекция дендрообразцов проходит сушку и подготовку к измерениям ширины годичных колец. Однако уже сейчас можно привести некоторые характеристики древесины. Все образцы относятся к лиственнице сибирской ( Larix sibirica Ledeb.). На примере бревен северной стенки внешнего сруба, от всех 10 венцов которой взяты полные спилы, можно оценить возрастные и габаритные параметры: возраст деревьев колеблется от 154 до 194 лет, но для большинства составляет 170–180 лет; максимальный диаметр стволов варьирует от 27 см в нижнем (первом) венце до 15,5 см в верхнем (десятом), постепенно убывая от венца к венцу снизу вверх. Бревна перекрытия и наката по диаметру в целом несколько меньше (16,5–21 см), средний возраст также около 170 лет. Стволы, которые послужили для изготовления столбов-опор – наиболее значительные по размеру и возрасту: диаметр 0,4–0,5 м, возраст около 250–260 лет.
Подкоровый слой, позволяющий максимально точно определить год валки дерева, фиксируется у всех образцов. Для того чтобы уже сейчас предварительно оценить время заготовки древесины, выборочно была исследована часть образцов: 5 бревен северной стенки сруба, бревно перекрытия, три обрубка столбов-опор. Во всех случаях, кроме одного, зафиксирован один и тот же год валки деревьев; вид сформировавшегося годичного кольца говорит о том, что валка происходила в холодный период, то есть осенью-зимой либо весной, но до начала вегетации у дерева. Единственным исключением стало бревно 10-го венца – судя по угнетенному состоянию его годового прироста последние несколько десятков лет, дерево могло засохнуть за 2–3 года до его валки вместе с остальными деревьями. Одновременность заготовки древесины вполне понятна ввиду исключительного характера события, по случаю которого сооружалась погребальная конструкция. В последующем предполагается детальный дендрохронологический анализ всей собранной в настоящее время древесины от внешнего сруба и навеса, а также ее сопоставление с образцами от внутреннего сруба, полученными ранее из Государственного Эрмитажа.
По сле выемки всех деревянных конструкций из могильной ямы в ее южной стене на уровне дна ямы изучен небольшой подбой, в который, судя по всему, были помещены концы бревен, использовавшихся для заклинивания крышки колоды [Руденко, 1953, с. 54–56]. Этот подбой в 1949 г. не изучался, поэтому целесообразно привести его описание. Подбой был сделан в южной стене с западной стороны центрального столба-опоры, примерно напротив проруба в стене сруба. Подбой заглублен в стену ямы на 1,3 м, его ширина 1,5 м, высота 0,8 м. В подбое обнаружены роговой заступ, детали четырехколесной повозки и фрагмент резной деревянной бляхи (?), покрытой золотой фольгой. В заполнении подбоя и рядом с ним было обнаружено множество щепок, образовавшихся, вероятно, при оформлении проруба непосредственно в яме (в отличие от мнения С.И. Руденко о том, что «окно это прорубалось заранее, после того, как камера была уже построена, но еще не установлена в могильной яме» [Там же, с. 55–56]).
В процессе повторного исследования выявлены различные предметы, оставшиеся после прежних раскопок. В заполнении и на дне ямы находились разрозненные кости лошади, в южной половине зафиксированы скопления костей лошади в сочленении с сохранившимися фрагментами мягких тканей или со следами их гниения. За южной стеной сруба, между центральным и юго-восточным столбами, обнаружена часть туши коня с сохранившимися мягкими тканями. Судя по всему, части туш коней (не менее трех) были сброшены в яму после их полевого изучения сразу после раскопок 1949 г. Длинных костей ног и черепа лошадей не обнаружено.
Также в заполнении сруба и снаружи, вдоль его восточной и западной стенок, встречались куски бересты, вероятно из покрытия потолков сруба берестяными полотнищами. На одном куске бересты обнаружен свитый лубяной шнурок, которым сшивалось полотно берестяного покрытия. На уровне 4–5 венцов сруба (сверху) в центральной и восточной его частях найдены разрозненные фрагменты золотой фольги и войлочных изделий. В юго-западном углу ямы обнаружена деревянная лопата.
На дне ямы, в основном в северной половине, обнаружены многочисленные фрагменты ковра «со сфинксом», вероятно от той части, которая находилась в конском погребении вместе с ковром со сценой «всадник и богиня». Также в северной половине найдены деревянная колотушка, фрагменты деревянной резной бляхи в виде оленя (от конского убора № 5) и украшения нагрудника седла в виде войлочных розеток (от конского убора № 3), мелкие полусферические бронзовые бляшки, покрытые золотой фольгой, а также фрагменты других изделий. За южной стеной сруба на дне ямы выявлены различные детали повозки. Кроме того, при выборке заполнения ямы встречены предметы, связанные с раскопками 1949 г.: носилки, две лестницы (одна сделана из бревен перекрытия сруба), верхонка (брезентовая рукавица), железный ковш, кусок мешковины, клочки газет и т.д.
Заключение
Проведенные работы показали перспективность повторного (вторичного) изучения раскопанных царских погребений пазырыкской культуры. Состояние сохранности оставленных после раскопок предметов в кургане 5 на могильнике Пазырык, в первую очередь деревянных погребальных конструкций, было более чем удовлетворительным и вполне пригодным для их музеефикации. Несмотря на глубокую воронку, оставшуюся на месте нерекультивированного раскопа в центре кургана, в яме вновь образовалась мерзлота, не тающая даже в летние периоды. Скорее всего, в остальных курганах могильника ситуация должна быть похожей.
Проведенное в течение трех лет доследование кург. 5 убедительно показало, что есть глубокий смысл и насущная потребность в осуществлении аналогичных исследований на всех оставшихся четырех больших курганах в урочище Пазырык с последующей корректной их рекультивацией.
Полевые исследования проведены в рамках гранта РФФИ № 18-09-00709 и частично при поддержке гранта Президента РФ для молодых ученых МК-1413.2019.6. Технико-технологический и дендрохронологический анализ погребальных конструкций выполнен в рамках проекта НИР № 0329-2019-0003.
Список литературы Завершение полевого доследования внутримогильной конструкции пятого Пазырыкского кургана
- Грязнов М.П. Первый Пазырыкский курган. – Л.: Гос. Эрмитаж, 1950. – 92 с.
- Замоторин И.М. Относительная хронология Пазырыкских курганов // Сов. археология. – 1959. – № 1. – С. 21–30.
- Захариева Е.И. Археологическое дерево как исторический источник (Дендрохронология Саяно-Алтайских курганов VIII–III вв. до н.э.): автореф. дис. … канд. ист. наук. – Л., 1974. – 21 с.
- Константинов Н.А., Мыльников В.П., Степанова Е.В., Васильева Н.А. Полевое доследование внутримогильных конструкций Пятого Пазырыкского кургана на Алтае (предварительное сообщение) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018а. – Т. XXIV. – С. 275–279.
- Константинов Н.А., Степанова Е.В., Урбушев А.У., Васильева Н.А., Шаблавина Е.А., Эбель А.В., Куюков Р.В. Работы на Пазырыкском могильнике в 2017 году // Полевые исследования на Алтае, в Прииртышье и Верхнем Приобье (археология, этнография, устная история). 2017 год: мат-лы XIII междунар. науч.-практ. конф., Горно-Алтайск, 24–27 апр. 2018 г. – Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 2018б. – Вып. 13. – С. 30–34.
- Марсадолов Л.С. Дендрохронология больших курганов Саяно-Алтая I тыс. до н.э. // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. – 1988. – Вып. 29. – С. 65–81.
- Мыльникков В.П. Обработка дерева в скифское время на Монгольском Алтае // Замерзшие погребальные комплексы пазырыкской культуры на южных склонах Сайлюгема (Монгольский Алтай). – М.: ИД «Триумф принт», 2012б. – С. 409–490.
- Мыльников В.П. Деревообработка в эпоху палеометалла (Северная и Центральная Азия). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – 364 с.
- Мыльников В.П. Опыт изучения погребальных сооружений из дерева в процессе раскопок археологических памятников // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2012а. – № 1 (49). – С. 97–107.
- Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М.; Л.: АН СССР, 1953. – 402 с.; 120 табл.
- Слюсаренко И.Ю., Гаркуша Ю.Н. К вопросу об относительной хронологии Пазырыкских курганов // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. – Т. V. – С. 497–501.