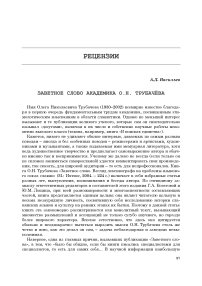Заветное слово академика О. Н. Трубачева
Автор: Васильев Александр Дмитриевич
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Рецензии
Статья в выпуске: 3 (3), 2006 года.
Бесплатный доступ
Академик РАН О.Н. Трубачёв, хорошо известный своими фундаментальными трудами в области славянской этимологии, неоднократно обращался и к вопросам социальной и культурной значимости языкознания. Книга «Заветное слово» содержит суждения ученого по поводу актуальных проблем отечественной истории и современности в лингвистическом аспекте.
Трубачев о. н., лингвистика, славянская этимология
Короткий адрес: https://sciup.org/144152852
IDR: 144152852
Текст научной статьи Заветное слово академика О. Н. Трубачева
Имя Олега Николаевича Трубачева (1930–2002) всемирно известно благода ря в первую очередь фундаментальным трудам академика , посвященным эти мологическим изысканиям в области славистики . Однако не меньший интерес вызывают и те публикации великого ученого , которые сам он снисходительно называл « досугами », включая в их число и собственно научные работы неиз менно высокого класса ( такова , например , книга « В поисках единства »).
Кажется , никого не удивляет обилие интервью , даваемых по самым разным поводам – иногда и без особенных поводов – режиссерами и артистами , худож никами и музыкантами , а также издаваемая ими мемуарная литература , хотя ведь художественное творчество и предполагает самовыражение автора и обыч но именно так и воспринимается . Ученому же далеко не всегда ( если только он не склонен заниматься саморекламой ) удается комментировать свои произведе ния , так сказать , для широкой аудитории – то есть для непрофессионалов . Кни га О . Н . Трубачева « Заветное слово . Взгляд лексикографа на проблемы языково го союза славян » ( М .: Ихтиос , 2004. – 224 с .) включает в себя избранные статьи разных лет , выступления , воспоминания и беседы автора . По очевидному за мыслу ответственных редакторов и составителей этого издания Г . А . Богатовой и Ю . М . Лощица , при всей разножанровости и многоаспектности составляющих частей , книга представляется единым целым : она являет читателю цельную и весьма незаурядную личность , посвятившую себя исследованию истории сла вянских языков и культур на ранних этапах их бытия . Поэтому в данной статье книга эта закономерно рассматривается как монолитный текст , вызывающий множество размышлений и ассоциаций не только сугубо научного , но гораздо более широкого характера . Вполне естественно , что здесь она цитируется обильно и неоднократно : пытаться выразить мысли О . Н . Трубачева столь же четко и ясно , как это делал он сам , – задача неблагодарная и заведомо невы полнимая .
Наверное, одна из главных причин, вызвавших публикацию «Заветного слова», в том, что «было бы обидно, если бы книги писались специалистами для специалистов, то есть для самих себя… В научной информации наибольшую ценность представляет все же та сердцевина, которая способна заинтересовать наибольшее число людей» (с. 84), особенно когда информация исходит от ученого такого высокого профессионального уровня.
Великий этимолог , совершивший немало открытий в своей области , умел на блюдать , анализировать и сопоставлять многие , казалось бы , хорошо известные факты по - новому ; но неудивительно , что это новаторство , по существу , имеет корни в лучших традициях отечественной лингвистики . Подчеркивая важность изучения лексики , О . Н . Трубачев исходит из того , что « все прочие уровни языка манифестируются только через лексику » ( с . 154) и именно « за словом и за его смыслом всегда стоит нечто большее – коллективный опыт народа , его дух , его подлинное величие » ( с . 18). Сравнительно - историческое языкознание « позволя ет – через реликты языка и мышления – заглянуть в умы и души древних лю дей » ( с . 93). Познание истории души народа через глубокое изучение истории словарного состава его языка – вот высший смысл этой науки . Чтобы полнее оценить проявляющуюся здесь преемственность , приведем лишь несколько вы сказываний русистов разных эпох . Ср .: «… Со временем живое слово теряется , – впечатление забывается и остается только одно отвлеченное понятие ; поэтому – восстановлять первобытный смысл слов – значит возобновлять в душе своей творчество первоначального языка » [ Буслаев 1941 : 172]. – « Всякий живой язык есть такое народное достояние , которым каждый член народа по закону приро ды должен пользоваться , воплощая его в себе , воплощая в нем все силы своего духа … Народ и язык – единица нераздельная . Народ – язык , язык – народ » [ Срезновский 1986 : 103, 106]. – « Исторический анализ – лишь производная форма непосредственного анализа самих говорящих субъектов » [ Виногра дов 1995 : 32]. Впрочем , в последние годы мы нередко сталкиваемся с примера ми забвения этих непреходяще справедливых положений , как и с пренебреже нием данными истории языка и самим принципом последовательного историз ма . Может быть , подобное происходит из - за преувеличенного ( иногда – и по конъюнктурным соображениям ) внимания лишь к факторам сегодняшней рус ской ( или уже « русскоязычной »?) речи ( и еще относительно недавнего прошло го , то есть многократно и безопасно заклеймленного т . н . « советского новояза »), что в совокупности можно охарактеризовать то ли как ахронию , то ли как пан - хронию . « Многим хочется провести черту … между синхронией и диахронией , но удалось ли это кому - нибудь в чистом виде ?» ( с . 163) – вопрос , конечно , рито рический .
В то же время невнимание к истории языка – и, соответственно, к истории культуры – существенно затрудняет поиски объективных сведений не только об истории народа, творца и носителя языка и культуры, но и о его современном статусе. Причем зачастую пророков обнаруживают исключительно в чужих отечествах. Например, «рутинный подход обозначился в отношении славянской культуры. Почти всё за нас здесь решали западные авторитеты», считавшие ее «обнищавшим вариантом индоевропейской культуры, и все этим удовлетворились, почему-то не дав себе труда критически задуматься: а может быть, совсем наоборот – действительно небогатый, простой уровень древних славян и есть тот древнейший культурный вариант, от которого греки, римляне, индоиранцы далеко ушли в своем развитии?.. Почему-то почти никому не пришла в голову единственно трезвая мысль, что речь может идти о разных стадиях культурного развития и что неразумно выдавать за общую древность высокое, а следовательно – позднее развитие античной греко-римской или древнеиндийской культуры» (с. 92–93). А именно объективные данные истории языка позволяют говорить, в частности, о таких кавалерийских усовершенствованиях (седло, стремена), которых Запад (сначала в лице эллинов и римлян, высокомерно трактовавших все прочие народы как невнятную массу «варваров») долгое время не знал: «при Александре Македонском, Юлии Цезаре и много позже там ездили, сидя “охлюпкой”, как сказал бы Даль» (с. 15). Кроме того, различаются не только уровни развития культур, но и самые их глубинные истоки – следовательно, и типы ментальности и ее разные национальные стереотипы. «Так, нельзя пройти мимо того курьезного факта, что новая христианская вера, уготовавшая рай только для собственных праведников-христиан (и, наоборот, ад – для упорствующих язычников), сама переняла слово рай у язычников-нехристиан… Зато – как бы для компенсации – слово и понятие “ад” пришло к нам вместе с христианством из Греции… Неописуемо интересен культурно-типологически тот факт, что у большинства неславянских народов Европы все было в принципе наоборот. То ли по причине большей мрачности местных языческих культов …, то ли в силу других специфических обстоятельств народным, дохристианским оказалось там как раз название ада…» [Трубачев 2005 : 30–31]. И причина «большей светлости, даже веселости нашего православного христианства … в сравнении с католичеством Западной Европы … может корениться в том …, что духовной культуре древних славян была чужда мрачная идея посмертного возмездия» [Там же]. Поэтому есть основания говорить не только об исходных, древних причинах типологически разных и по сей день во многом различных цивилизаций, культур, менталитетов, но и о прообразах современных пропагандистских штампов и идеологических доктрин. Один из характерных примеров – «цивилизованные государства»; хотя никто вроде бы и не стремится ответить на вопросы, вытекающие из внутреннего алогизма этого словосочетания – что такое государство, абсолютно не цивилизованное, и насколько реально его существование? – тем не менее, с точки зрения многих пропагандистов, в том числе и российских, России, несмотря на ее тысячелетнюю историю, так и не удалось стать «цивилизованной». Отсюда вполне логично следуют интенсивные попытки принести на российскую территорию и в сознание народа «подлинную цивилизацию» и «настоящую культуру», иначе говоря – импортировать «западный менталитет с его безудержным индивидуализмом и порой совсем другими социальными нормами (лицензия на лихоимство, ростовщичество, установка на наживу)» (с. 184). Вовсе не случайно пропагандируется боязнь национально-культурной самобытности и полный отказ от нее – это «верный симптом грядущего неототалитаризма, из какой бы части Европы и мира они не исходили» (с. 42).
О.Н. Трубачев подчеркивает, что до сих пор еще недостаточно оценен по достоинству величайший эксперимент языкознания – словарь (а ведь «лексикогра- фия заимствована у языкознания практически всеми прочими науками и использована в них вторично как форма кодификации их собственных терминов и метаязыков… Одно это придает языкознанию исключительную важность в системе всех наук…» (с. 150). Надо иметь в виду, что эксперимент во всем и всегда заключает в себе немалую долю риска, начиная уже с самого замысла предприятия – и лексикографического тоже. Экспериментаторы рискуют – и лексикографы в том числе: велика степень ответственности за любой неверный шаг, идет ли речь о семантизации слова, или о подборе иллюстраций его употребления, или о любых других компонентах словарной статьи. Так, Х. Касарес советовал составителю современного словаря на научной основе «быть постоянно начеку и следить за своим пером, пресекая всевозможные проявления своей личности, начиная с индивидуальной манеры выражения, т. е. со стиля, и кончая обнаружением своих симпатий и антипатий, политических взглядов, философских и религиозных убеждений и т.п Только при этом условии это произведение будет принято всеми читателями как плод честного, серьезного и беспристрастного исследования» [Касарес 1958 : 159 и далее]. Известно, что в современной российской лексикографии так и не удалось реализовать якобы осуществимое стремление к «деидеологизации» словаря; отпечаток личности лексикографа проявляется почти неизбежно: «гуманитарные науки – науки о человеке в его специфике, а не о безгласной вещи и естественном явлении» [Бахтин 1986 : 303].
Несомненной спецификой обладает историческая лексикография: «ведь каждая словарная статья – это маленькое исследование по истории слова. Но словарник пишет его не отрешенно…» [Богатова 1984 : 125], а «каждое слово представляет собой особый микромир, в котором отражается какой-то кусочек реальной действительности или отклонений от нее» [Филин 1984 : 16]. Слово в его многовековой исторической динамике – свидетельство перемен в жизни народа, в его языковой картине мира. Но «этимолог… это как бы лексикограф вдвойне, ему приходится восстанавливать, реконструировать и значение, и форму слов» (с. 143); поэтому возрастает и степень ответственности ученого за результаты его труда. Отнюдь не случайно О.Н. Трубачев неоднократно обращается к таким, казалось бы, отвлеченным категориям, как этика исследователя (с. 93 и др.). «Придирчивый автотекстолог» (с. 164), по его самохарактеристике, имеет право на критический анализ концепций других специалистов и предлагаемых ими формулировок. Неприятие О.Н. Трубачевым модных поветрий хорошо известно, и, конечно, не только в науке (ср.: «Послушать иных многих, так просто жалко делается людей: чуть ли не все изнывали под игом тоталитаризма, диктата, цензуры… В случае с собой я никаких таких кошмаров не припомню» (с. 141–142)). Он, в силу своей самодостаточности, всегда оставался разумным противником любых радикальных крайностей, причем и разнонаправленных: и в те времена, когда «Москва болела структурализмом» (с. 138) и утверждалось, что «структурализм – это единственно научное языкознание» (с. 154); и гораздо позднее, когда «понимание необходимости нового этапа носится в воздухе …, но только подлинно когнитивным (познавательным) всегда было и остается исто- рическое, сравнительно-историческое языкознание» (с. 144). Таким образом довольно часто порождаются «индивидуальные терминологические эксцессы» [Дорошевский 1973 : 12], ведущие к гипертрофии терминологии, что и свидетельствует о недостатках самой методологии [Трубачев 1980 : 9]. Заметим попутно, что эта проблема далеко не нова; ср., например: «Трудно читать сочинения лингвистов, но еще труднее понять, чего они хотят» [Бенвенист 1974 : 21]; «… прогресс в языкознании – это нередко иллюзия, обусловленная тем, что вводятся новые термины, которые, в сущности, не обозначают ничего нового, или тем, что старые термины получают нечеткое, расплывчатое, метафорическое употребление» [Стеблин-Каменский 1974 : 81] (хотя и «научная терминология как продолжение народной тоже поневоле наделена метафоричностью» [Трубачев 1992 : 43]).
« Подчас … у нас с водой выплескивается и ребенок » ( с .142) в угоду модным умонастроениям .
Любопытным представляется привести по поводу моды в науке следующие ранние параллели : «… научные же мнения – дело текучей и изменчивой моды , постоянной нисколько не более , чем мода на дамские шляпы или рукава . А ес ли скромность не дозволяет слишком отставать от того , чего в данную минуту держится весь свет , то самоохранение тем менее может допустить суетную бе готню за « последним криком моды » как дамской , на шляпы , так и мужской , на веяния науки » [ Флоренский 1979 : 785]. « Шляпка – женский выездной голов ной убор , вид которого и названья меняются ежедень » [ Даль 1955 : 640] ( оче видно , по этой причине , кажется , единственная в Словаре Даля статья , снаб женная графическими изображениями – мужских шляп , не содержит ни одного рисунка женской ).
По мнению же О . Н . Трубачева , « образованный мыслящий лингвист трезво отнесется к любой надвигающейся на него волне моды ( а моды в науке ах как сильны , и устоять против них бывает трудно и зрелым мужам науки , о женах я уже не говорю )» ( с . 162).
Эта стойкость не дается легко : она основывается на осознании справедливос ти своих суждений , на уверенности в точности выводов , но отнюдь не превра щается в самоуверенность . Высшая требовательность к себе выражается и … в сомнении . Может показаться , на первый взгляд , весьма удивительной , но столь же заслуживающей уважения такая черта , определяемая совестливостью и от ветственностью подлинного ученого , как способность сомневаться . И это приз нание академик О . Н . Трубачев произносит откровенно и публично , причем в день своего семидесятилетия , отнюдь не считая такое качество постыдным , а напротив , одним из непременных для подлинного исследователя : « развить в се бе умение сомневаться в привычном и общепризнанном – вот , пожалуй , глав ное , чему меня научила моя научная жизнь , мой главный Учитель » ( с . 138).
Представляется уместным здесь привести , хотя бы вкратце , некоторые сопос тавления , довольно наглядно демонстрирующие различия научных традиций , а в какой - то степени , наверное , – и национальных менталитетов .
Описывая – в очевидно ироническом ключе – национально дифференциро ванные типы причин самоуверенности , Л . Н . Толстой замечает , в частности : «… Русский самоуверен именно потому , что он ничего не знает и знать не хочет , потому что не верит , чтобы можно было вполне знать что - нибудь . Немец само уверен хуже всех , и тверже всех , и противнее всех , потому что он воображает , что знает истину , науку , которую он сам выдумал , но которая для него есть аб солютная истина » [ Толстой 1980: 53] – что можно интерпретировать в первом случае как оптимистическую уверенность в бесконечности познания , во вто ром – как изначальную ограниченность познания искусственными рамками .
Показательно в этом отношении воспоминание О . Н . Трубачева о боннском профессоре , который рассуждал о славянах , научившихся благодарности якобы только с принятием христианства ( спасибо ( г ) и т . п .) - « верно рассуждает... , правда , чуточку с апломбом , слишком уверен , нету доли сомнения , без кото рой – нет живой науки ». И когда академик тактично – во время перерыва меж ду заседаниями – подсказал немецкому коллеге , что « многозначность своей древней лексики позволяла славянам выразить необходимые чувства » и во вре мена язычества ( помнить добро ), « возражения не последовало... Но - не возра зи я , не направь его дисциплинированную немецкую мысль в более гибкое рус ло , так бы и пребывал в сознании свое полной правоты в суждениях о бедных древних славянах . Европой вовсю по - прежнему владеет научный позитивизм и снобизм : все - то они знают и понимают о нас самих лучше нашего …» ( с . 94). Вот так же – абсолютно уверенно – рассуждая о русской субстандартной лексике , подобный исследователь представляет исходную семантику русского существи тельного немец как deaf ( англ . ‛глухой ’), а происхождение прозвища советского деятеля – Кучер ( с англ . аналогом Coachman) – объясняет его работой в каче стве водителя автомобиля Л . И . Брежнева ( хотя для носителя русского языка внутренняя форма этой номинации вполне прозрачна : соединение инициалов и части фамилии К . У . Черненко [Timroth 1986 : 29, 125]) и т . д . ...
О.Н. Трубачев решительно выступает против «игр в слова, замешенных на дурной политике»: «невеселые размышления приходят, когда видишь не одну только порчу языкового вкуса, но и дезориентацию национального самосознания – когда уже и сам русский себя готов назвать россиянином. Ведь россиянин – это житель России, в принципе, любой национальности» (с. 72). Хорошо известно, что в лексиконе, пожалуй, каждого народа совершенно особое место принадлежит его самоназванию. Оно, выступая в качестве первого компонента оппозиции «свой»/«чужой», является одним из главных составляющих национального менталитета. Целенаправленные манипуляции автоэтнонимом способны существенно трансформировать картину мира в сознании носителей языка. Примеров этого достаточно и в истории России, включая новейший период; таковы коннотативные эволюции этнонима государствообразующей нации – русские, по крайней мере, с начала XX в. и по настоящий момент оказывающегося мишенью пропагандистских упражнений, внешне, казалось бы, самых разных и даже взаимно противоположных политических сил и пропагандистских доктрин. Контекстуальное окружение в текстах СМИ, в которых он употребля- ется, постоянно и безапелляционно рисует русских и все русское в самых негативных тонах (ср. сугубо отрицательные коннотации, индуцируемые в слове русский за счет назойливого повторения сочетаний вроде «русская мафия» – кстати, используемого преимущественно тогда, когда речь идет вовсе не о русских, но о бывших гражданах СССР или России, – и «русский фашизм», которого попросту не существует). Столь же настойчиво в дискурсе СМИ применяются терминоиды русскоязычный и русскоговорящий по отношению именно и главным образом к этнически русским. Имеет место явно нарочитое неразличение русского и российского; последнее все чаще заменяет собой и советское, ставшее почти пейоративным и – в ряде коммуникативных ситуаций – обретающее статус табуированного. Наиболее вероятными причинами таких «игр в слова» следует считать влияние иностранных языков (например, английского, где Russian, по сути, синкретично: это и «русский», и «российский»); воздействие чужой и чуждой для множества граждан РФ культуры (в частности, в Израиле именуют «русскими» выходцев из СССР, а также России и ряда других ныне суверенных государств); возможно, реализуются и рекомендации новейших политтехнологов, различного рода специалистов по проведению национальной (т. е. по отношению к нациям, этносам) политики. Стараясь «растворить русское в российском» и преуспевая в этом [20, 11], подчеркнуто не предпринимают подобных попыток применительно к другим этническим группам населения России.
Налицо очередная попытка элиминировать этноним русские; правда, идеологическое обоснование теперь иное, хотя и столь же мифическое, как прежнее, – набившие оскомину «общечеловеческие ценности». Это далеко не ново, ср.: «…Как же мы теперь самоуверенны …, как свысока решаем вопросы, да еще какие вопросы-то: почвы нет, народа нет, национальность – это только система податей, душа – tabula rasa, вощичек, из которого можно сейчас же вылепить настоящего человека, общечеловека всемирного, гомункула – стоит только приложить плоды европейской цивилизации да прочесть две-три книжки» [Достоевский 1956 : 79]. Можно заметить, что сегодня здесь очевидно влияние сконструированной и культивируемой в США, а оттуда распространяемой по всему миру political correctness; это, конечно, закономерно в свете сегодняшних реалий и в преддверии грядущей (а точнее, наверное, – уже идущей) глобализации. Успехи такого подхода к регулированию межнациональных отношений в России довольно ощутимы. Многоликая модернизированная смердяковщина, настоянная на бывшем «интернационализме» и обычно обозначающая себя как «цивилизованность», чрезвычайно активна. Отказ в признании русских нацией заметен, хотя и косвенно, в лингвистических исследованиях, посвященных «национально-русскому двуязычию», где изучаются владение и пользование языком одного из народов РФ – и русским, т. е., подразумевается, не национальным. И удаление из российского паспорта указания национальности его владельца, поданное как шаг в сторону призрачного «мирового сообщества» (и почти уже реального «нового мирового порядка») тоже вполне логично (см. также [Васильев 2003 : 180–211]). В русле этой же тенденции («игр в слова») следует рассматривать и отсутствие в тексте закона «О государственном языке Российской Феде- рации» определения самого понятия «русский язык» и каких-либо упоминаний о русском народе.
« Русский народ , который никогда не надо было учить самоотверженности , как известно , принял на себя максимальную тяжесть последних войн , экономи ческих усилий и подъемов . Можно сказать , что он во многом добровольно потес нился , сознательно помогая другим нациям и народностям » ( с . 21). Однако те перь и само слово народ исключено из выступлений высокопоставленных рос сийских деятелей и текстов СМИ и заменено словом население ; « населению » же , в отличие от народа , вовсе не обязательно иметь свою культуру , историю , национальную ментальность ( см . также [ Васильев 2004]), да и не живет « насе ление » в собственном суверенном государстве , а обитает преимущественно на разных « пространствах » ( с .9) – ср . « образовательное пространство », « культурное пространство », « экономическое пространство » и прочие . Это отчетливо напоми нает не только о пресловутых Lebensraum и Ostraum, но и реплику литератур ного персонажа : « Да , im Raum verlegen… Im Raum- то у меня остался отец , и сын , и сестра в Лысых Горах . Ему это все равно » [ Толстой 1980 : 217].
Сегодня совершенно в глобалистском духе , которым одержимы « новые кочев ники », по терминологии Ж . Аттали [ Калашников 2003 : 60], критикуется « идея национального государства как якобы себя изжившая , муссируется государ - ствообразование наднациональное – очередной миф , пусть и обращенный яко бы в будущее . В действительной , невыдуманной истории мы всегда имеем дело с национальным государствообразованием …» ( с . 184); « в государствообразова - нии воплощена идея самосохранения нации , народа … Разговор о том , что на циональный принцип государствообразования себя будто исчерпал , представ ляется безответственным и авантюрным . Предположить , что наше русскоязыч ное общество до такой степени утратит свою русскость , что передоверит бразды правления какому - то наднациональному , транснациональному корпоративно му руководству , можно , думаю , только в дурном сне » ( с . 185), – но , увы , и дур ные сны могут сбываться …
«Россия – однонациональная страна, и это всячески замалчивается и оттесняется на задний план средствами массовой информации и всякими, проще говоря, “идеологическими диверсантами” (с. 207). Видимо, в последнем случае кавычки излишни: ведь давно говорилось о бесплодности попыток вооруженного нападения на «диктатуры» (в иной терминологии – социалистические государства) и о единственно возможном «свержении государственной власти изнутри» [Юнг 1997 : 195–197]; о том, что идеологическая диверсия по-прежнему активно используется в информационно-психологической войне, см., например [Кара-Мурза 2002], [Расторгуев 2003].
Знакомясь с трудами великого ученого , невольно задаешься вопросом о его истоках , об условиях , в которых формировалась его личность . О . Н . Трубачев рассказывает : «… Совершенно ясно , что фамилия Трубачев – от трубач – фами лия военная , казачья …» ( с . 138). Выходец из семьи медиков , переживший мно гое в военном Сталинграде , ощущал « явную склонность к занятиям языком , с изрядным прилежанием заучивал изо дня в день огромное количество слов по словарям , стараясь поставить себе приличное произношение … Еще задолго до окончания десятилетки я приобрел весьма основательные познания по немец кому языку и немецкой классической литературе , неплохо , практически свобод но читал по - французски , начал читать по - английски , по - польски . Делал я это абсолютно самостоятельно … Приобретался язык , да , пожалуй , не один лишь язык , но и характер » ( с . 110); хотя « чтобы быть серьезным языковедом , не обяза тельно быть полиглотом и считать языки десятками . С ними надо работать по необходимости ». О . Н . Трубачев говорит : «… По роду деятельности я неплохо ориентируюсь практически во всех славянских языках , это и умение на них объясняться , писать ; необходимо также знать и пять - шесть стандартных запад ноевропейских языков ( в частности , английский , немецкий , французский ), уметь читать на итальянском , испанском . … Некоторые занятия венгерским и финским …, армянским , грузинским и другими древними языками » ( с . 200).
Студенческая юность в Днепропетровске с ее новыми впечатлениями – и пос тоянное чтение , вкус к которому был привит семейным « культом книги » ( с . 123); а « у человека , который не только читает книги , написанные другими , но и сам их пишет , отношение к книгам особое » ( с . 130–131).
Важно признание автора - рассказчика : « Я в хобби не нуждаюсь , я всегда лин гвист и этимолог – во все субботы - воскресенья , во все отпуска . Моя наука меня не отпускает , но она же меня бесконечно питает и радует …, не допускает иссу шения разума . Она не глушила мои чисто человеческие слабости …» ( с . 140). « Спасибо науке , которая , будучи наиболее строгой и точной из гуманитарных , оставалась , тем не менее , в высоком смысле гуманитарной ; за звукосоответстви - ями и филиациями значений она всегда видела и искала человека , социум , культуру . Это великое счастье – быть гуманитарием !» ( с . 139). «… Образованный лингвист – это филолог , гуманитарий , ему небезразлично место гуманитарных наук в кругу всех наук , он гордится своим делом , он не согласен на второсте пенную роль для своей науки ; свою профессию лингвиста он не променяет ни на какую другую …» ( с . 159).
Хотя « творческий исследователь , искатель не может полностью ни предска зать , ни предвидеть результат своей работы » ( с . 164), О . Н . Трубачев видел и предвидел очень многое , и далеко не только в сфере собственных научных ин тересов .
Книга «Заветное слово» весьма актуальна, содержательна и поучительна. Трудно переоценить пользу знакомства с ней, особенно – для начинающих ру- систов. Ведь о высокой социальной значимости языкознания и сегодня нередко забывают – и сами лингвисты «тоже виноваты в этом забвении» (с. 24). Искренняя благодарность ответственным редакторам и составителям книги Г.А. Богатовой и Ю.М. Лощицу, ее издателям за предоставленную широкому кругу читателей возможность знакомства с размышлениями и суждениями великого русского ученого и подвижника.