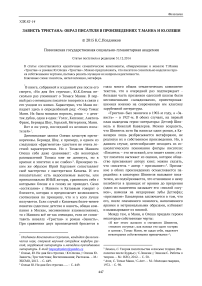Зависть Тристана: образ писателя в произведениях Т. Манна и Ю. Олеши
Бесплатный доступ
В статье сопоставляются идентичные семантические компоненты, обнаруженные в новелле Т.Манна «Тристан» и романе Ю.Олеши «Тристан». Можно предположить, что писатели сознательно наделяли героев собственными чертами, пытаясь решить мучащие их вопросы идентичности.
Писатель, интеллигенция, метафора
Короткий адрес: https://sciup.org/148102089
IDR: 148102089 | УДК: 82-14
Текст научной статьи Зависть Тристана: образ писателя в произведениях Т. Манна и Ю. Олеши
В книге, собранной и изданной уже после его смерти, «Ни дня без строчки», Ю.К.Олеша несколько раз упоминает о Томасе Манне. В первый раз о немецком писателе говорится в связи с его уходом из жизни. Характерно, что Манн попадает здесь в определённый ряд: «Умер Томас Манн. Их была мощная поросль, роща – с десяток дубов, один в один: Уэллс, Киплинг, Анатоль Франс, Бернард Шоу, Горький, Метерлинк, Манн.
Вот и он умер, последний из великих писа-телей» 1 .
Дневниковые записи Олеши зачастую противоречивы. Бернард Шоу, к примеру, в одном из следующих «фрагментов» удостоен не очень лестной характеристики. Но с Томасом Манном Олеша себя даже сравнивает: «До некоторых размышлений Томаса мне не дотянуть, но в красках и эпитетах я не слабее» 2 . Примерно таким же образом Юрий Карлович сопоставляет своё мастерство с мастерством Катаева. И это показательно: есть недосягаемые высоты, или принципиально ИНЫЕ авторы, сравнивать себя с которыми Олеше и в голову не приходит. Само «состязание» с Манном и Катаевым говорит о близости, которая и предполагает возможность соотнесения по принципу, что и у кого лучше получается. Если случай с Катаевым более-менее понятен (одесское детство и юность, общая компания в Москве, несомненное взаимовлияние), то с Манном всё не так очевидно, если не сопоставить новеллу «Тристан» и роман «Зависть». При сравнении двух произведений бросается в
глаза много общих семантических компонент текстов, что в очередной раз подтверждает -большая часть прозаиков одесской школы были несомненными «западниками», ориентировавшимися именно на современную им классику зарубежной литературы.
«Тристан» был закончен в 1902-м году, а «Зависть» – в 1927-м. В обоих случаях, на первый план выведены герои-литераторы: Детлеф Шпинель и Николай Кавалеров. Можно возразить, что Шпинель хотя бы написал один роман, а Кавалеров лишь разбрасывается метафорами, не реализуя их в собственном произведении. Но, в данном случае, целесообразнее исходить из социологического понимания фигуры писателя: «Писатель – это не всякий, кто пишет книги; статус писателя вытекает из оценки, которое общество присваивает автору книг; можно сказать, что «писатель = автор + признание»» 3 . Признание в обоих произведениях осмысливается пародийно: в санатории Шпинеля называют писателем, но подчёркивается, что отношение к нему колеблется в границах от иронии до презрения (один из пациентов называет его «гнилой сосунок», намекая на нездоровые зубы Детлефа); «признание» Кавалерова заключается в том, что его, после пламенного монолога, наполненного яркими и нетривиальными образами, избивают и вышвыривают из пивной.
Между тем, и Манн, и Олеша придали героям некоторые собственные черты:
«И вот этого жалкого и смешного Шпинеля, «гнилого сосунка», как назвал его один «остряк и циник», Томас Манн, не щадя себя, наделяет некоторыми собственными привычками» 4 ;
«Да, Кавалеров смотрел на мир моими глазами. Краски, цвета, образы, сравнения, метафоры и умозаключения Кавалерова принадлежат мне (…). Как художник, проявил я в Кавалерове наиболее чистую силу, силу первой вещи, силу пересказа первых впечатлений. И тут сказали, что Кавалеров – пошляк и ничтожество. Зная, что много в Кавалерове есть моего личного, я принял на себя это обвинение в ничтожестве и пошлости, и оно меня потрясло» 5 .
Ещё одно очевидное сходство обнаруживается в рамках конфликта и сюжетного развития. Противниками Шпинеля и Кавалерова становятся персонажи, отлично устроившиеся в жизни. Это, соответственно, господин Клетериан и Андрей Бабичев. И у этой пары героев немало общего. «Коммерсант» и «колбасник» – деловые люди, которые целиком и полностью поглощены своей работой, что не мешает одному питать добрые чувства к своей жене и сыну, а другому – помогать Володе Макарову, племяннице Вале и, наконец, самому Кавалерову. Однако ни о какой духовности и полёте творческой фантазии не может идти и речи. Образы предельно приземлены за счёт черт, ассоциирующихся, прежде всего, с материально-телесным низом:
«Затем господин Клетериан спросил кофе, – кофе и сдобных булочек; звук «к», казалось, образуется у него где-то глубоко в глотке, а слово «булочка» он произносил так, что у каждого, кто его слышал, должен был появиться аппетит» 6 ; «Говорил он громко, небрежно и добродушно, как человек, пищеварение и кошелёк которого находятся в полном порядке, быстро шевеля выпяченными губами» 7 (Томас Манн);
«Он (Бабичев – К.П.) поёт по утрам в клозете. Можете представить себе, какой это жизнерадостный, здоровый человек. Желание петь возникает в нём рефлекторно. Это песни его, в которых нет ни мелодии, ни слов, а есть только одно «та-ра-ра», выкрикиваемое им на разные лады, можно толковать так:
«Как мне приятно жить… та-ра! та-ра!...Мой кишечник упруг… ра-та-та-та-ра-ри… Правильно движутся во мне соки… ра-та-та-ду-та-та… Сокращайся, кишка, сокращайся… трам-ба-ба-бум!»» 8 (Ю.Олеша).
Кавалеров
Я вас ненавижу, товарищ Бабичев
Вы обжора и чревоугодник
Это письмо пишется, чтобы сбить вам спе-си 10
Столкнувшись с необходимостью окончательно выяснить отношения со своими «врагами», Шпинель и Кавалеров поступают одинаково: они пишут своим мнимым оппонентам письма. В случае Шпинеля ирония усилена потому, что его послание отправлено через почтовое отделение в соседний номер санатория. И, опять же, в письмах героев очевидно сходство:
Шпинель
Я ненавижу Вас и Вашего сына
Вы плебей-гурман
Это письмо (…) – и есть акт мести, Чтобы хоть на мгновение вывести Вас из Вашего толстокожего равновесия 9
Самое главное, что объединяет два письма – это ключевые обвинения, каждое из которых является плодом разбушевавшейся фантазии героев. Шпинель считает, что «осквернённая» Клете-рианом Габриэла умирает по вине мужа, а Кавалеров представляет Андрея Бабичева развратником, решившим соблазнить собственную племянницу. По сути дела, оба «писателя» делают Клетериана и Бабичева «героями» своих книг, придумывая авантюрные сюжеты. Роднит Детлефа и Николая их абсолютная беспомощность вне текста: столкновения лицом к лицу с воображаемыми злодеями заканчиваются позорными поражениями. Почему же столь много схожего между расстановкой сил в двух произведениях? Думается, что нельзя всё объяснить лишь влиянием Манна на Олешу, ведь проблематика текстов достаточно сильно рознится. Ответ стоит искать именно в признании литераторов о чертах их характеров, подаренных героям.
Томас Манн, привнося некоторые собственные качества в образ Шпинеля, вершит суд над собой. Впоследствии подобным покаянием в грехах станет и «Доктор Фаустус». С другой стороны, Манн решает и важнейшую для него проблему: как соотносится жизнь литератора с жизнью бюргера? В «Тристане» литератор и бюргер – враги, в следующей новелле немецкого писателя, «Тонио Крёгер», черты этих типажей объединятся, но уже без иронического осмысления. В финале «Тристана» Шпинель бежит от жизни, олицетворяемой смеющимся ребёнком, Антоном Клетерианом, а в финале «Тонио Крёгера», главный герой находит своё место, отстаивая собственное мнение, находя себя и в искусстве, и в мире.
Пожалуй, один из центральных вопросов «Зависти» и сводится к тому, что делать в Советской России таким людям как Кавалеров? Похожую проблематику затрагивал Зощенко в некоторых «Сентиментальных повестях» и «Возвращённой молодости». Но если у Михаила Михайловича эта тема не стала основной, то Олеша пронёс её через всё творчество, озадачиваясь ей и в записных книжках. В конце 20-х годов ХХ века в Советской России ещё можно было позволять себе балансировать между Бабичевыми-Макаровыми и Кавалеровыми. Так искал место сам автор, так искал место Томас Манн, преодолевая свои недостатки. Но случай Манна не имел отношения к политике, поскольку Германия не требовала от литератора в ту пору чёткого определения по политической линии. В 1934 году в СССР нужно было быть соцреалистом. В 1927-м году ещё можно было показывать крайности: и хочется Кавалерову занять место в элите, и талант у него есть, да только сам он часто срывается в материальное, забывая о духовном, и этим материальным иногда восхищается; а есть Андрей Бабичев, который тоже идеалом не представляется, особенно не внушает доверия его воспитанник Володя, превратившийся в подобие робота и панибрат- ски общающийся со своим прежним покровителем. Невозможен в тридцатых годах и финал «Зависти». Читатель наблюдает два коллективных тела. Одно, понятое в буквальном смысле, – это спящие по очереди с Анечкой Иван Бабичев и Кавалеров, другое – это уже советское коллективное тело, всякой сексуальности лишённое. Последнее появляется в сцене на футбольном матче, когда в единое целое объединяются зрители, футболисты, Андрей Бабичев и Валя. Какой вариант лучше? Оба не внушают оптимизма. Но к 1934-му году таких вариантов уже не было. Писатель не сам приходил к определённому выводу, как пришёл Манн в «Тонио Крёгере», его подталкивали к единственному пути. Олеша пытался соответствовать соцреализму и сочинил, находясь в поиске положительного героя, крайне неудачную пьесу «Список благодеяний». Получилась очередная попытка обвинить и оправдать интеллигенцию одновременно. Неудивительно, что Олеша ушёл в публицистику, поскольку к её правилам приспособиться было легче. Может быть, в безуспешности поиска и есть одна из причин молчания автора «Зависти» и «Трёх толстяков», а вовсе не в «сдаче», как решил А.Белинков?
THE ENVY OF TRISTAN: THE IMAGE OF A WRITER IN T.MANN'S AND YU.OLESHA'S LITERARY WORKS
Список литературы Зависть Тристана: образ писателя в произведениях Т. Манна и Ю. Олеши
- Олеша, Ю. Ни дня без строчки/Ю.Олеша//Олеша Ю. Зависть; Три толстяка; Воспоминания; Рассказы. -М.: ЭКСМО, 2013. -С. 449.
- Зенкин, С. Теория писательства и письмо теории (Филология после Бурдье)/С.Зенкин//Зенкин С. Работы о теории. -М.: НЛО, 2012. -С. 50.
- Апт, С. Томас Манн/С.Апт. -М.: Молодая гвардия, 1972. -С. 98.
- Олеша, Ю. Речь на I Всесоюзном съезде советских писателей/Ю.Олеша//Олеша Ю. Зависть; Три толстяка; Воспоминания; Рассказы. -М.: ЭКСМО, 2013. -С. 57.
- Манн, Т. Тристан/Т.Манн//Манн Т. Смерть в Венеции. -Минск: Народная Асвета, 1988. -С. 42 -43.