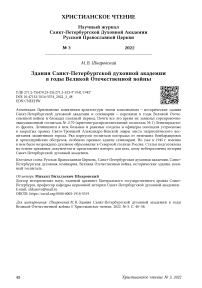Здания санкт-петербургской духовной академии в годы великой отечественной войны
Автор: Шкаровский Михаил Витальевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: К 280-летию Санкт-Петербургской епархии
Статья в выпуске: 3 (102), 2022 года.
Бесплатный доступ
Признанные памятники архитектуры эпохи классицизма - исторические здания Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии - пережили в годы Великой Отечественной войны и блокады сложный период. Почти все это время их занимал сортировочно-эвакуационный госпиталь № 1170 (приемно-распределительный госпиталь № 1) Ленинградского фронта. Лечившиеся в нем больные и раненые солдаты и офицеры посещали устроенные в закрытых храмах Свято-Троицкой Александро-Невской лавры места патриотического воспитания защитников города. Ряд корпусов госпиталя пострадал от немецких бомбардировок и артиллерийских обстрелов, особенно прежнее здание семинарии. Но уже в 1945 г. именно в нем было возрождено духовное образование в Северной столице России. Статья подготовлена на основе архивных документов и представляет интерес для всех, кому небезразлична история Санкт-Петербургской духовной академии.
Русская православная церковь, санкт-петербургская духовная академия, санкт- петербургская духовная семинария, великая отечественная война, исторические здания, военный госпиталь
Короткий адрес: https://sciup.org/140295652
IDR: 140295652 | УДК: 271.2-75(470.23-25):271.2-523-9"1941/1945" | DOI: 10.47132/1814-5574_2022_3_48
Текст научной статьи Здания санкт-петербургской духовной академии в годы великой отечественной войны
Признанные памятники архитектуры эпохи классицизма — исторические здания Санкт-Петербургской духовной академии и духовной семинарии — появились на Монастырском острове, вблизи Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, в первой половине XIX в. Трехэтажное здание Академии было построено в 1817–1821 гг. по проекту, составленному знаменитым петербургским архитектором Джакомо Кваренги с последующим участием архитекторов Л. Руска и И. И. Шарлеманя (нынешний адрес: наб. Обводного канала, д. 7). В 1881 г. здание было расширено: по проекту гражданского инженера Д. В. Люшина к его боковым выступам со стороны двора сделали небольшие трехэтажные пристройки. В 1906–1907 гг. возведенные ранее банный и больничный флигели Академии расширили и частично надстроили вторым этажом по проекту гражданского инженера Е. Л. Морозова (РГИА. Ф. 799. Оп. 23. Д. 3033. Л. 1, 5).
Трехэтажное здание семинарии было построено в 1838-1841 гг. по проекту синодального архитектора А. Ф. Щедрина (современный адрес: наб. Обводного канала, д.17) [Архитекторы-строители, 1996, 343-344; Кобак, 1998, 225-233]. В 1879 г. за главным зданием появился больничный флигель, возведенный по проекту Д. В. Люшина. В 1887-1888 г. к зданию семинарии пристроили церковный флигель, сооруженный архитектором Н. Н. Марковым. В 1903 г. главное здание семинарии надстроили четвертым этажом. В 1880–1882 гг. между Академией и семинарией по проекту Д. В. Люшина было возведено здание для академической библиотеки, где разместились и служебные квартиры преподавателей (нынешний адрес: наб. Обводного канала, д. 11).
В условиях нараставших антирелигиозных гонений советской власти, из-за отсутствия финансовых средств и ввиду того, что ее здание было передано другой организации, Петроградская академия в декабре 1918 г. прекратила свою деятельность, первой из четырех дореволюционных Духовных академий. Семинария была закрыта еще в сентябре 1918 г. Большую часть главного здания Петроградской духовной академии в июне 1919–1927 гг. занимал Центральный губернский приемно-распределительный пункт для нравственно дефектных мальчиков, поблизости находился и районный детский дом № 29 (ЦГА СПб. Ф. 3201. Оп. 1. Д. 59. Л. 38 об.; Ф. 7610. Оп. 39. Д. 88. Л. 1–3; Оп. 180. Д. 6391. Л. 254, 269).
В 1925–1927 гг. часть зданий Академии также занимали финансовый техникум и Педагогический музей (ЦГА СПб. Ф. 2552. Оп. 1. Д. 1618. Л. 26, 94, 125). Храм святых Двунадесяти апостолов официально закрыли в 1919 г. [Антонов, Кобак, 2010, 191; Шульц, 1994, 146; Глухова, Матвеев, 2000, 162–163]. К середине 1920-х гг. интерьеры храма оказались уничтожены. Богатейшая библиотека Духовной академии вошла в состав Государственной публичной библиотеки (ГПБ). Из части академической библиотеки 18 декабря 1918 г. по месту ее нахождения в доме на наб. Обводного канала, д. 17 (в настоящее время д. 11), было устроено 1-е филиальное отделение ГПБ [Богданова, 2003, 151]. Подразделения Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина занимали это здание и в годы Великой Отечественной войны.
Главное здание Духовной академии в ноябре 1927 г. передали северному факультету Ленинградского Восточного института имени А. С. Енукидзе, который 1 января 1930 г. был преобразован в самостоятельный Институт народов Севера, занимавший дом до октября 1941 г. [Смирнова, 2013, 43–49].
Здание Духовной семинарии после ее закрытия — в конце 1918-1920 гг. — занимала «Постоянная комиссия по постройке 1-го государственного крематориума в Петрограде» и подразделения Башкирской кавалерийской дивизии. В конце октября 1933 г. Свято-Троицкая Александро-Невская лавра была закрыта в качестве действующего монастыря, и значительная часть ее корпусов отдана под жилье (коммунальные квартиры). Для детей их обитателей была открыта районная советская школа № 20 имени Тимирязева, занимавшая до середины лета 1941 г. большую часть здания Духовной семинарии [Берташ, Галкин, 2012, 51]. Другую часть семинарского здания в 1930-х — 1941 гг. занимали курсы шоферов. Такая ситуация сохранялась до начала Великой Отечественной войны.
Здание Александро-Невского духовного училища постановлением ВЦИК и Совнаркома СССР от 30 ноября 1925 г. было передано на баланс Наркомата обороны и числилось как фонд военного городка № 30, строение 1. Часть его перед войной занимала 8-я артиллерийская спецшкола, другую часть — сортировочно-эвакуационный госпиталь (СЭГ) № 1170 (почтовый адрес: Ленинград-167, п/я 565). Для его нужд на территории военного городка № 30 в 1939 г. были построены четыре небольших здания: два санитарных пропускника, ожидальный зал и котельная (ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1700. Л. 93).
В 1930-1931 гг. от станции Навалочная, по улице Красного Электрика (Атаманской) и через реку Монастырка на Монастырский остров была проложена одноколейная железнодорожная ветка специального назначения длиной 1,5 км, из которых 400 м приходились на тупиковую станцию, платформа которой протянулась вдоль Митрополичьего сада и Семинарского корпуса Лавры. Она заканчивалась вблизи прежнего здания Духовной академии. Ветка могла быть необходима для доставки раненых санитарными поездами и летучками — передвижными медицинскими пунктами оказания скорой помощи.
В период советско-финляндской (так называемой Зимней) войны сортировочноэвакуационный госпиталь № 1170 работал с 1 декабря 1939 г. по 1 сентября 1940 г. За этот период к санитарной рампе его железнодорожной станции в Митрополичьем саду прибыл 201 поезд с ранеными и больными красноармейцами, всего 101798 человек. К началу 1940 г., занятый одновременно 1300 пациентами, госпиталь работал на пределе возможностей. Смены медперсонала были 12-часовые, но порой затягивались и на 2–3 дня. В результате 9 января 1940 г. был открыт второй эвакогоспиталь (№ 2307) на базе больницы им. Мечникова, разгрузивший «лаврский». Через эти два госпиталя прошли 90% раненых и заболевших на позициях Зимней войны.
Исследователь здравоохранения СССР во время советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Д. А. Журавлев в своей статье отмечал: «После прибытия в город раненые и больные поступали в сортировочно-эвакуационный госпиталь (СЭГ). До января 1940 г. в Ленинграде существовал только один госпиталь подобного рода — СЭГ 1170, который размещался на территории Александро-Невской лавры в специально отведенных помещениях. Вследствие специфики своей работы госпиталь примыкал к железнодорожным путям, которые были ориентированы в большей степени на проведение эвакуации в тыл страны. В первый период боевых действий военно-санитарные поезда, двигавшиеся с Карельского перешейка, направлялись по правому берегу Невы через станцию Дача Долгорукова, пересекали ее по Финляндскому железнодорожному мосту и далее следовали по левому берегу в направлении санитарной рампы СЭГ № 1170, при этом использовались пути соединительной железной дороги» [Журавлев, 2001]. Сохранившийся после окончания советско-финляндской войны в части прежнего здания Александро-Невского духовного училища госпиталь был небольшим, состоявшим из одного сортировочного отделения и двух перевязочных, однако он был готов к оперативному расширению в случае необходимости.
Вскоре после начала Великой Отечественной войны и приближения немецких войск к Ленинграду комплекс зданий бывших Духовных школ и Свято-Троицкой Александро-Невской лавры стали использовать для военных целей. В августе-октябре 1941 г. на территории Монастырского острова был создан один из укрепленных районов с девятью опорными боевыми точками, в том числе в прежнем здании Академии. Этот укрепленный район занимал в кратчайшие сроки сформированный на случай прорыва к Лавре немецких частей отряд под командованием т. Стодолина. Передний край обороны указанного отряда проходил по набережной Обводного канала (ЦГА СПб. Ф. 4. Оп. 6. Д. 18. Л. 1, 8).
Согласно воспоминаниям одной из блокадниц, огневая точка была устроена в помещении ее квартиры в угловом здании Лавры, выходившем на набережную реки Невы. При этом местных жителей выселили из занимаемых ими квартир, окна которых заложили кирпичами, чтобы оборудовать место для стрелка. В Федоровском корпусе вблизи Свято-Троицкого собора разместили бомбоубежище, а большую часть самого собора заняли под воинский склад, в котором некоторое время хранили и боеприпасы. Митрополичий сад был изрыт окопами и уставлен блиндажами и дзотами, частично сохранявшимися до конца 1940-х гг. [Ходаковская, 2009, 15].
При этом уже 23 июня 1941 г. возобновил свою деятельность сортировочноэвакуационный госпиталь № 1170. 26 июня был назначен начальник госпиталя — З. С. Шварц, и начался массовый набор медицинского персонала. Сначала, после полной мобилизации, к 30 июня госпиталь занимал бывшие здания Александро-Невского духовного училища и духовной семинарии [Морозова, 2015, № 5]. СЭГ № 1170 входил в состав Северного (затем Ленинградского) фронта. В соответствии с мобилизационным планом по г. Ленинграду 1930-х гг., в случае возможной войны на железнодорожную ветку в Митрополичьем саду должны были сворачивать с главного пути все фронтовые санитарные поезда, подходя к единственному сформированному на тот момент в городе сортировочно-эвакуационному госпиталю Ленинградского военного округа (для округа это был приемно-распределительный эвакогоспиталь № 1).
В октябре 1941 г. был официально закрыт Институт народов Севера, и прежнее здание Духовной академии, а также часть лаврских зданий на четыре года занял сортировочно-эвакуационный госпиталь № 1170 (приемно-распределительный эвакогоспиталь № 1). Сюда, прежде чем попасть в какое-либо другое лечебное учреждение, поступали почти все больные и раненые солдаты и офицеры Ленинградского фронта. В госпитале врачи оказывали первую медицинскую помощь, экстренно оперировали, осуществляли диагностику и сортировку поступавших, отделяли инфекционных больных и затем направляли средне- и легкораненых в соответствующие лечебные учреждения города или в тыл. Продолжительность пребывания пациентов в СЭГ №1170 в 1941-1943гг. составляла: для раненых — 4,5-36 часов, для больных — 12-89 часов, инфекционных — 90-175 часов, в экстренных случаях — до 15 суток. Здесь оставляли долечивать людей в критическом состоянии. Среди городских эвакогоспиталей СЭГ № 1170 был ориентирован прежде всего на лечение тяжелораненых с ампутациями и травмами конечностей, поражениями позвоночника, периферической нервной системы и внутренних органов. В функции врачей и медсестер также входило выявление «самострелов» и симулянтов, имелся в госпитале и штат политработников, которые изучали письма бойцов родным. По воспоминаниям одного из офицеров, приемно-распределительный госпиталь находился в парке за монастырем, с выходом к Неве у Обводного канала, то есть в бывших зданиях Духовной академии, семинарии и училища [Ломагин, 2002, 213].
СЭГ № 1170 был одним из крупнейших госпиталей в Ленинграде: он мог принять одновременно 2000 больных и раненых. Число пациентов, прошедших через него за годы Великой Отечественной войны, точно не известно, но оно составляло сотни тысяч человек. Несколько тысяч скончавшихся в стенах госпиталя тяжелораненых были похоронены в основном на Преображенском (Жертв 9-го января) кладбище. В годы блокады, ввиду близости линии фронта, раненых доставляли в СЭГ № 1170 не только на санитарных поездах, но и на автомобилях. Для последних к госпиталю были назначены специальные маршруты: по Московскому проспекту (от 42-й армии), проспекту Обуховской Обороны (от 55-й армии) и через Охту (с Невского пятачка — плацдарма на левом берегу Невы к востоку от города). В марте 1942 г. в СЭГ № 1170 впервые в СССР был применен бактерицидный полипептидный антибиотик под кодовым названием «препарат П», задачей которого было подавление роста бактерий рода Clostridium — возбудителей газовой анаэробной гангрены [Медики и блокада, 1997; Глинкина, 1993, 58–78].
В 2015 г. в журнале «Звезда» были опубликованы подробные воспоминания медсестры этого госпиталя Ирины Владимировны Морозовой, работавшей в нем с 29 июня 1941 г. около четырех лет. О повреждении зданий госпиталей в ходе артиллерийского обстрела 8–9 апреля 1943 г. она записала: «Потом я пошла в общежитие… но не успели мы попить, как начался обстрел. Свист снарядов сопровождался громовыми раскатами. Здание каменное, „вечное“, колебалось, как соломенная палатка™ Вместе считали взрывы, удары — я насчитала 39™ на 40-м кровать закачалась и стекла все вылетели со звоном. Я нахлобучила шапку. Надя вскочила с постели. Быстро оделась. В дыры разбитых окон врывались клубы кирпичной пыли, окрашиваемые яркими солнечными лучами в огненный цвет. Надя говорила что-то о пожаре. Мы оставались некоторое время в состоянии выжидания. Пыль улеглась, свежий холодный воздух с отраженным солнечным светом ворвался в комнату. Впечатление о пожаре оказалось ложным. Комната наша представляла жуткую картину: осколки стекол, пыль, кирпичи — все это кругом, везде, и на постелях, подушках, на тумбочках, и на белоснежных кружевных накидках — везде-везде, даже в самых дальних углах комнаты. Конфорка, закрывавшая недействующую трубу, вдруг вылетела и, совершив длинный путь по воздуху, упала на середину белого кружевного покрывала постели! Мы сидели на кроватях в шинелях и шапках. Оглушительные раскаты разрывов заставляли невольно закрывать ухо подушкой. После каждого взрыва слышался шелест и звон стекол (точно заботливый дворник подметает осколки). Это падали и рассыпались осколки. От стекол в рамах осталось лишь воспоминанье™ Наконец все немного утихло™ Взгляд в окно, и вы видите разрушенную стену здания, покалеченные окна, вылетевшие совсем рамы. Перед самым окном у операционной — большая воронка. Весь двор усеян кирпичами, осколками. Начальник госпиталя З. С. Шварц стоит в подъезде главного здания и окрикивает всех проходящих» [Морозова, 2015, № 6].
Присутствие на территории Духовной академии и Александро-Невской лавры большого количества военнослужащих стало одной из причин устройства в закрытых в 1920–1930-е гг. храмах монастыря мест патриотического воспитания защитников города. Обращение в ходе войны к русским патриотическим, в том числе православным церковным традициям играло важную роль в обороне Ленинграда. С Северной столицей была тесно связана жизнь, деятельность или история захоронений знаменитых полководцев — А. В. Суворова, М. И. Кутузова, св. воина Ф. И. Ушакова и св. блгв. князя Александра Невского, в честь которых учредили ордена в советских вооруженных силах. 26 октября 1942 г. Ленгорисполком принял постановление об открытии с 5 ноября для массовых посещений мест захоронения великих русских полководцев: Александра Невского, Петра I, Суворова и Кутузова, с устройством при их могилах исторических экспозиций и проведением декоративных работ по оформлению могил (ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1469. Л. 75). В Благовещенской церкви Лавры находится могила генералиссимуса А. В. Суворова, и в ноябре 1942 г. было произведено ее художественное оформление. К ней приходили воины, уходившие на защиту города на Неве.
Также осенью 1942 г. было организовано посещение Троицкого собора, где пребывала рака с мощами св. блгв. князя Александра Невского. В воспоминаниях одного из блокадников говорилось: «Весной 43-го по городу расклеили афиши, извещающие о том, что открыт доступ к местам захоронения великих русских полководцев — Александра Невского, Суворова, Кутузова, Петра I. Я, конечно, сразу помчался в Александро-Невскую Лавру. Вхожу в Троицкий собор и гляжу: на карнизе, рядом со статуями, растут молоденькие березки! В соборе я, прежде всего, устремился к месту, где стояли мощи Александра Невского. Там был поставлен грубо побеленный фанерный ящик с надписью, утверждающей, что на этом месте были поставлены Петром I мощи Александра Невского. Зашел я в Благовещенскую церковь, на могилу А. В. Суворова: на ней, кроме плиты с автоэпитафией, поставлено склоненное красное знамя; такое же было на месте мощей Александра Невского». В 1944 г. в СвятоТроицком соборе была устроена выставка о князе Александре Невском, которую посетило значительное количество солдат и офицеров Ленинградского фронта и жителей блокадного города [Викентий Кузьмин, 1985, 59]. Фактически, таким образом, именно в Северной столице (а не в Переяславле-Залесском в 1945 г.) была создана первая в СССР музейная экспозиция, посвященная святому Александру Невскому. Конечно, посещали выставку и военнослужащие, находившиеся на излечении в зданиях Академии и семинарии.
На германских картах комплекс зданий Духовных школ и Лавры был обозначен в качестве военного объекта, и поэтому он подвергался сильным бомбардировкам и артиллерийским обстрелам. Особенно сильно пострадали от них здание Духовной семинарии, Свято-Троицкий собор, Митрополичий корпус и здания Лавры, выходившие фасадами на Неву, в частности, от артобстрела в апреле 1942 г. (ЦГА СПб. Ф. 8557. Оп. 9. Д. 11. Л. 10). При этом главный корпус Духовной академии, как и здание академической библиотеки, существенно повреждены не были.
Здание духовной семинарии подверглось атаке германской авиации при воздушном налете еще вечером 8 ноября 1941 г. Бомба, по свидетельству очевидца, пробила все междуэтажные перекрытия восточного (правого) крыла и «разорвалась в подвале, развалив дом надвое. Только в коридоре первого этажа старинный плиточный пол частично уцелел, и отсюда чрез все этажи было видно небо. Погибли несколько человек — пожарные и раненые» [Бойков, 1989, 45]. Стены лицевого фасада устояли, но оконные переплеты были выбиты. Значительно сильнее пострадали стены, выходившие на внутренний двор: они повисли, угрожая падением. Однако в сохранившейся части здания продолжил функционировать эвакогоспиталь.
Под госпиталь использовали и занимавшую с конца 1930-х гг. здание Новой ризницы Александро-Невской лавры Гинекологическую больницу Ленгорздравотдела. Согласно акту Ленинградской городской комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков от 30 декабря 1943 г., немецкими бомбардировками и обстрелами ей был нанесен ущерб на 123 965 руб. (ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1469. Л. 75; Ф. 8557. Оп. 4. Д. 2. Л. 56).
21 июня 1944 г. Государственная инспекция по охране памятников Ленинграда написала председателю Совета по делам Русской православной церкви Г. Г. Карпову, что комплекс зданий Александро-Невской лавры представляет «исключительную ценность, как памятник русского зодчества XVIII века», и что «в последние годы Благовещенская церковь превращена в Мавзолей А. В. Суворова, а в части Троицкого собора устроен Мавзолей Александра Невского». При этим инспекция сообщила о необходимости срочных ремонтно-восстановительных работ ввиду «почти катастрофического» состояния практически всех зданий монастыря, а поэтому и быстрого решения вопроса о передаче их «ответственному пользователю». На весь комплекс зданий претендовали Центральный исторический архив НКВД, Музей истории Ленинграда и Русская Православная Церковь, в частности митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич) при посещении обители в апреле 1944 г. высказал соображение о возможности передачи Лавры Церкви и восстановлении в ней резиденции Ленинградского митрополита (ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1469. Л. 75; Ф. 9324. Оп. 1. Д. 12. Л. 18–18 об.).
В октябре 1945 г. на железнодорожную платформу в Митрополичьем саду привезли из эвакуации 350 тысяч наиболее ценных книг Государственной публичной библиотеки, отправленных в июле 1941 г. в 12 вагонах в г. Мелекесс (Димитровград) Ульяновской области. Их частично разместили в бывшем здании академической библиотеки.
В 1945 г. в Северной столице произошло возрождение духовного образования. Основанные в этом году Богословско-пастырские курсы, а затем и воссозданные в 1946 г. Духовная академия и семинария разместились в здании дореволюционной семинарии [Антонов, Кобак, 2010, 191; Шульц, 1994, 146]. О возвращении Русской Православной Церкви исторического здания Санкт-Петербургской духовной академии тогда не могло быть и речи.
Через несколько месяцев после окончательного снятия блокады Ленинграда, 2 июня 1944 г., Государственный комитет обороны издал постановление №5982 о передаче домов №№ 17 (ныне д. 7), 17а и 19 (ныне д. 17) по наб. Обводного канала, в том числе здания бывшего Института народов Севера, «Ленэнерго» для размещения ремесленного училища № 16 и общежитий, указав командованию Ленинградского фронта освободить эти здания, занимаемые военным госпиталем (ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1700. Л. 94–96). Реализуя это постановление, Ленгорисполком 27 июня 1944 г. предложил Горжилотделу передать данные здания «Ленэнерго» для размещения ремесленного училища, однако это было реализовано лишь частично (ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1700. Л. 97).
24 сентября 1945 г. Ленгорисполком, в соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 15 июня 1945 г. о расширении в Ленинграде сети ремесленных училищ и школ ФЗО, принял новое решение № 156-92, в котором говорилось: «1. Обязать руководителей предприятий и ведомств, под их личную ответственность, принять меры для немедленного освобождения зданий и помещений, передаваемых под ремесленные училища и школы ФЗО, согласно приложению № 1. Освобожденные здания и помещения передать Ленинградскому государственному управлению трудовых резервов…». В приложении № 1 было указано, в числе других, и историческое здание Духовной академии (тогда д. 17), занятое госпиталем и «Ленэнерго», которое предписывалось немедленно освободить и передать для размещения Ремесленного училища № 16 (ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1680. Л. 120–121).
Не все в этом решении устроило военное командование, и 5 октября заместитель командующего Ленинградского военного округа (ЛВО) по материальному обеспечению генерал-лейтенант Шилов написал в Ленгорисполком, что здание № 17а «принадлежит ЛВО, занято постоянным гарнизонным военным госпиталем на 400 коек — освобождено быть не может и, по-видимому, в перечень зданий включено ошибочно». Шилов просил внести исправление в принятое решение (ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1700. Л. 101).
22 октября начальник Ленгоржилотдела сообщил в Ленгорисполком о необходимости добиться освобождения военным госпиталем всех переданных «Ленэнерго» зданий (ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1700. Л. 100). В справке Ленгоржилотдела от 29 ноября отмечалось, что вопрос о передаче указанных зданий был подготовлен Смольнинским райисполкомом совместно с «Ленэнерго», и в дальнейшем оказалось установлено, что д.17а (бывший Рижский госпиталь, площадью 5159 кв. метров) принадлежит Ленинградскому военному округу, а расположенный рядом д. 17б (бывшая 8-я артиллерийская спецшкола, площадью 4334 кв. метров), также в настоящее время занятый госпиталем, состоит на балансе Гороно, при этом санитарный пропускник находится за д. 17б. Поэтому Квартирно-эксплуатационный отдел (КЭО) Ленинградского военного округа и «Ленэнерго» обратились с просьбой об обмене зданиями, что, по мнению Ленгоржилотдела, является целесообразным (ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1700. Л. 97–97 об.).
Учтя эти пожелания, Ленгорисполком 22 декабря 1945 г. принял решение № 165– 176 «В целях удобства эксплуатации зданий, принятых КЭО ЛВО и Ленэнерго, расположенных на разных участках по Обводному каналу, Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает: 1. Передать на баланс КЭО ЛВО здание под № 17б по Обводному каналу взамен дома № 17а, переданного Ленэнерго, согласно постановлению ГОКО от 2/VI-1944 г. 2. Просить Совнарком СССР утвердить это решение» (ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1700. Л. 90). Вскоре решение было утверждено, госпиталь покинул д. 17а, и его приняло на свой баланс Управление «Ленэнерго».
1 апреля 1946 г. сортировочно-эвакуационный госпиталь №1170 был расформирован, военные полностью выехали из главного исторического здания Духовной академии (тогда д. 17), и его с банным и больничным флигелями заняло для своих нужд «Ленэнерго». Только в 1948 г. главное здание Академии с земельным участком согласно распоряжению Совета Министров СССР от 31 марта 1948 г. было передано на компенсационной основе от Министерства электростанций Министерству трудовых резервов СССР. Согласно акту от 23 октября 1948 г. от Центрального ремонтного завода «Ленэнерго» Ремесленному училищу № 16 были переданы: главное здание, земельный участок, два одно-двухэтажных флигеля (банный и больничный), здание котельной, одноэтажная каменная пристройка к котельной, которую занимала кузница, сапожная мастерская, два материальных склада, гараж и дровяной склад (Канцелярия СПбДА. Л. 228).
Для создания разрешенных постановлением Совнаркома от 22 марта 1945 г. Ленинградских Богословско-пастырских курсов в конце апреля в Северной столице удалось использовать здание бывшей Духовной семинарии на наб. Обводного канала, д. 19 (ныне д. 17). В то время оно не представляло большой ценности для советского государства, так как германские бомбардировки и артиллерийские обстрелы превратили его правую (восточную) часть в руины. До лета 1944 г. уцелевшую часть здания бывшей семинарии занимал эвакогоспиталь. Постановлением Государственного комитета обороны от 2 июня 1944 г. оно было передано на баланс «Ленэнерго» для размещения ремесленного училища и общежития (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 40. Л. 48); [Берташ, Галкин, 55].
30 апреля 1945 г. управлявший Ленинградской епархией архиепископ Псковский и Порховский Григорий (Чуков) вместе с уполномоченным Совета по делам Русской православной церкви по Ленинграду и области А. И. Кушнаревым, осмотрев три здания на территории Александро-Невской лавры, пришли к выводу, что для Богословско-пастырских курсов больше всего подходит здание бывшей семинарии. Московская Патриархия взяла на себя проведение всех дорогостоящих ремонтно-восстановительных работ, однако вопрос о передаче здания затянулся из-за противодействия райисполкома, и для его ускорения владыка Григорий 16 июля 1945 г. обратился с соответствующим письмом к А. И. Кушнареву. Уже вскоре, 31 июля, Ленгорисполком фактически передал наиболее разрушенную часть семинарского здания в пользование епархии (ЦГА СПб. Ф. 9324. Оп. 1. Д. 26. Л. 29, 31–32, 43; Д. 30. Л. 74); [Берташ, Галкин, 2012, 55].
После получения из Москвы указаний, переданных через А. И. Кушнарева, Ленгор-исполком 28 сентября 1945 г. принял секретное решение № 213с: обязать «Ленэнерго» передать курсам часть здания — церковные помещения, комнаты под ней, актовый зал и крыло четвертого этажа (общая площадь 7485,95 кв. м), выделив для сообщения этих помещений изолированную лестничную клетку (парадный вход), а также допустить рабочие бригады к производству ремонтно-восстановительных работ (ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 145. Л. 56). 13 сентября, еще до выхода постановления Ленгорис-полкома, начались первоочередные ремонтные работы (в том числе в поврежденной церкви святого апостола Иоанна Богослова) (ЦГА СПб. Ф. 9324. Оп. 1. Д. 25. Л. 75–78).
Уже 15 мая архиеп. Григорий в письме Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Алексию I сообщил о мерах, предпринятых для подготовки к открытию осенью в Северной столице Богословско-пастырских курсов (ЦГА СПб. Ф. 9324. Оп. 1. Д. 25. Л. 4). 12 июня, согласно резолюции патриарха от 28 мая, было объявлено о начале приема слушателей на двухлетние (открытые уже как трехлетние) курсы — лиц старше 18 лет, со средним образованием, по рекомендациям приходских священников [Сорокин, 2007, 470]. Завершающий период организации курсов владыка Григорий возглавлял уже как правящий архиерей: 7 сентября 1945 г. он был назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским.
При этом приходилось преодолевать сильнейшее сопротивление руководства «Ленэнерго», которое поселило в здание около 700 рабочих. Так, назначенный заведующим Богословско-пастырских курсов прот. Николай Ломакин 10 сентября написал об этом обширный рапорт Ленинградскому уполномоченному Совета по делам Русской православной церкви А. И. Кушнареву. А 20 сентября пришлось составить акт о том, что начальник военизированной охраны «Ленэнерго» отдал распоряжение о запрете производить строительные работы по восстановлению здания работникам Ленинградской епархии (ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 145. Л. 57–59).
Однако все препятствия удалось преодолеть, 30–31 октября состоялись приемные экзамены. После их завершения на курсы были приняты 24 человека из 42 подавших прошение о приеме [Шкаровский, 1995, 156].
Для Ленинградских Богословско-пастырских курсов первоначально удалось подготовить только несколько отремонтированных помещений в верхнем (четвертом) этаже левой части здания. Восточное (правое) крыло еще пребывало в руинах, требовал серьезного ремонта и церковный флигель. Кроме того, «в аренду» епархии сразу была передана центральная лестница с вестибюлем и актовый зал на 300 мест. Три этажа левого, неповрежденного крыла площадью 2200 кв. м сохранили за общежитием «Ленэнерго», которое наглухо отгородили [Ходаковская, 2009, 15, 21]. Руководство «Ленэнерго» всячески пыталось препятствовать деятельности Богословских курсов и действовало «с исключительной наглостью и грубостью» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 40. Л. 3–4, 15–16, 18, 30).
Однако все препятствия были преодолены. 22 ноября 1945 г. произошло торжественное открытие Богословско-пастырских курсов, которое стало праздником для верующих жителей Северной столицы. После молебна в актовом зале было зачитано приветственное письмо отсутствовавшего из-за болезни владыки Григория (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 25. Л. 59–61); [ЖМП, 1946, № 1]. На следующий день, 23 ноября, начались занятия. Одновременно продолжались ремонтные работы [Осипов, 1947]. Вскоре после открытия Богословско-пастырских курсов, в конце 1945 г., при них начала работать и библиотека с богословской и учебной литературой (АСПбДА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 196). Восстановительные работы в бывшем здании семинарии продолжались до 1947 г. В сентябре 1946 г. в нем начали действовать Ленинградская духовная академия и семинария.
Решением Малого совета Санкт-Петербургского городского совета от 7 сентября 1993 г. № 327 весь исторический комплекс зданий Духовной академии и семинарии с больничным и банным флигелями, садом, оградой и территорией был объявлен памятниками истории и культуры объектов градостроительства и архитектуры Санкт-Петербурга (наб. Обводного канала, д. 7, 7а, 15, 17, 19) (ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 64. Д. 664. Л. 114). И лишь 29 ноября 2013 г. состоялось подписание акта передачи Санкт-Петербургской духовной академии ее исторического здания, в том числе помещения храма святых Двунадесяти апостолов (д. 7, литера Г), борьба за возвращение которых шла более 20 лет — с 1992 г.
Таким образом, исторические здания Духовной академии и семинарии пережили в годы Великой Отечественной войны и блокады сложный период. Почти весь период войны их занимал сортировочно-эвакуационный госпиталь № 1170 (приемнораспределительный госпиталь № 1) Ленинградского фронта. Лечившиеся в нем больные и раненые солдаты и офицеры посещали устроенные в закрытых храмах СвятоТроицкой Александро-Невской лавры места патриотического воспитания защитников города. Ряд корпусов госпиталя пострадал от немецких бомбардировок и артиллерийских обстрелов, особенно прежнее здание семинарии. Но уже в 1945 г. именно в нем было возрождено духовное образование в Северной столице России.
Список литературы Здания санкт-петербургской духовной академии в годы великой отечественной войны
- АСПбДА — Архив Санкт-Петербургской Духовной Академии. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3.
- ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 25; Оп. 2. Д. 40.
- Канцелярия СПбДА — Канцелярия Санкт-Петербургской Духовной Академии. Книга канцелярская по зданию Академии. Д. 7. Т. 4.
- РГИА — Российский государственный исторический архив. Ф. 799. Оп. 23. Д. 3033.
- ЦГА СПб — Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Ф. 4. Оп. 6. Д. 18; Ф. 2552. Оп. 1. Д. 1618; Ф. 3201. Оп. 1. Д. 59; Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1469; Д. 1680; Д. 1700; Оп. 36. Д. 145; Оп. 64. Д. 664; Ф. 7610. Оп. 39. Д. 88; Оп. 180. Д. 6391; Ф. 8557. Оп. 4. Д. 2; Оп. 9. Д. 11; Ф. 9324. Оп. 1. Д. 12; Д. 25; Д. 26; Д. 30.
- Антонов, Кобак (2010) — Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. Энциклопедия христианских храмов. СПб., 2010.
- Архитекторы-строители (1996) — Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX — начала XX века: Справочник / Под общ. ред. Б. М. Кирикова. СПб., 1996.
- Берташ, Галкин (2012) — Берташ А., свящ, Галкин А.К. Семинарский храм Духовной академии. СПб., 2012.
- Бойков (1989) — Бойков В.А. Память блокадного подростка. Л., 1989.
- Богданова (2003) — Богданова Т.А. История архива Санкт-Петербургской духовной академии в фондах Российской национальной библиотеки // К 75-летию Дома Плеханова 1828-2003: Сб. статей и публикаций, материалы конференций. СПб., 2003. С. 148-154.
- Викентий Кузьмин (1985) — Викентий (Кузьмин), иеродиак. Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры. Л., 1985. Рукопись.
- Глинкина (1993) — Глинкина М.Т. Физико-технический институт в дни блокады // Чтения памяти А. Ф. Иоффе. СПб., 1993. С. 58-78.
- Глухова, Матвеев (2000) — Глухова Е.Е., Матвеев Б.М. Комплекс зданий духовно-учебных заведений в Санкт-Петербурге // Памятники истории культуры Петербурга. Вып. 5. СПб., 2000. С. 159-165.
- Журавлев (2001) — Журавлев Д.А. Организация медицинской помощи раненым и больным в Ленинграде во время советско-финляндской войны 1939-1940г. // Санкт-Петербург и страны Северной Европы: Материалы третьей ежегодной научной конференции (2-3 апреля 2001 г.). СПб., 2001.
- ЖМП (1946) — Журнал Московской Патриархии. 1946. № 1.
- Кобак (1998) — Кобак А.В. Аполлон Щедрин // Зодчие Санкт-Петербурга. XIX — начало XX века. СПб., 1998. С. 225-233.
- Ломагин (2002) — Ломагин Н.А. Неизвестная блокада. СПб.; М., 2002. Кн. 1.
- Медики и блокада (1997) — Медики и блокада: взгляд сквозь годы: Воспоминания, фрагменты дневников, свидетельства очевидцев, документальные материалы. СПб., 1997.
- Морозова (2015) — Морозова И.В. Ленинградский дневник медсестры фронтового эвакогоспиталя № 1170. 1941-1945 / Публ. В. Саблина // Звезда. 2015. № 5; № 6.
- Осипов (1947) — Осипов А, прот. Ленинградские православные Духовная Академия и семинария в 1946/47 учебном году // ЖМП. 1947. № 7.
- Смирнова (2013) — Смирнова Т.М. Институт народов Севера в Ленинграде // История Петербурга. 2013. № 1. С. 43-49.
- Сорокин (2007) — Сорокин В., прот. Исповедник. Церковно-просветительская деятельность митрополита Григория (Чукова). СПб., 2007.
- Ходаковская (2009) — Ходаковская О. И. Святейший Патриарх Алексий II. Студенческие годы в Ленинградских Духовных школах. СПб., 2009.
- Шкаровский (1995) — Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь и советское государство в 1943-1964 годах. От «перемирия» к новой войне. СПб., 1995.
- Шульц (1994) — Шульц С. С. Храмы Санкт-Петербурга (история и современность). Справочное издание. СПб., 1994.