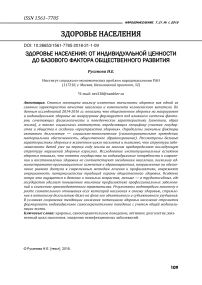Здоровье населения: от индивидуальной ценности до базового фактора общественного развития
Автор: Русанова Нина Евгеньевна
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Здоровье населения
Статья в выпуске: 1 т.21, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу изменения значимости здоровья как одной из главных характеристик качества населения и компонента человеческого капитала. По данным исследований 2014-2016 гг. показано, что общественное здоровье на макроуровне и индивидуальное здоровье на микроуровне формируется под влиянием системы факторов, сочетающих физиологические и поведенческие характеристики (генетика, образ жизни), а также социальных институтов, определяющих специфику участия государства и общества в создании «пространства здоровья». Определены значимые факторы активного долголетия - социально-экономические (самосохранительное проведение, материальная обеспеченность, общественное здравоохранение). Рассмотрены базовые характеристики здоровья в жизненном цикле населения и выявлено, что структура заболеваемости детей уже на первом году жизни во многом предопределяет последующую структуру нарушений здоровья взрослых. Исследование институциональных аспектов здоровья показало, что ответы государства на индивидуальные потребности в сохранении и восстановлении здоровья не соответствуют ожиданиям населения, поскольку административно-организационные изменения в здравоохранения, направленные на обеспечение равного доступа к современным методам лечения и профилактики, опережают инерционность патерналистских традиций охраны общественного здоровья. Особенно остро это ощущается в детских и пожилых возрастах, меньше - в трудоспособных, где государство уделяет повышенное внимание профилактике профессиональных заболеваний и снижению производственного травматизма. Результаты подтвердили гипотезу о росте сознательного отношения всех категорий населения к своему здоровью, стремление к активному долголетию даже на фоне его объективного и субъективного ухудшения. В условиях сохранения тенденции снижения потенциала здоровья население стремится формировать индивидуальное самосохранительное поведение с учетом общей медикализации жизни.
Здоровье, самосохранительное поведение, активное долголетие, жизненный цикл населения, эпидемия неинфекционных заболеваний
Короткий адрес: https://sciup.org/143173580
IDR: 143173580 | DOI: 10.26653/1561-7785-2018-21-1-09
Текст научной статьи Здоровье населения: от индивидуальной ценности до базового фактора общественного развития
З доровье как характеристика качества населения из индивидуальной стала параметром, отражающим состояние общества и предметом исследования не только медицины, но и других наук, дополнивших традиционные физические показатели человека новым содержанием. В контексте социальнодемографического подхода сформировалось понятие «пространство здоровья», сочетающее его количественные и качественные индикаторы для населения в целом и позволяющее рассмотреть все факторы, определяющие здоровье как «состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов» [1], которое в России на 15-20% зависит от генетики индивида, на 20-25% — от состояния окружающей среды, на 10-15% — от медицинского обеспечения и на 50-55% — от образа жизни [2].
Исследовательская проблема определения категории «здоровье» эволюционировала от частно-научного понимания к многостороннему изучению, оставаясь при этом на верхней ступени иерархии человеческих ценностей. Особую актуальность она приобрела во второй половине ХХ века, когда при переходе к постиндустриальному этапу высокая производительность общественного труда позволила содержать институциональное население, и возникли новые отрасли, не требующие исключительно молодой здоровой рабочей силы, что способствовало многовариантной занятости. Это соответствовало теории человеческого капитала, согласно которой на стадии технологической цивилизации индивидуальное здоровье стало тем «пазлом», без которого не складывается «портрет»
производительных сил общества. Такой контекст изучения здоровья сочетает традиционные методы демографической статистики, позволяющие проанализировать количественные параметры, с методами социологического исследования, выявляющими качественные характеристики и взаимосвязи здоровья с семейным статусом, занятостью, гендерными параметрами и прочее. В результате были выявлены наиболее значимые социально-экономические факторы активного долголетия — самосохра-нительное проведение, материальная обеспеченность населения, система здравоохранения, экология, эффективность которых зависит от специфики государственного управления и институциональных особенностей. Особую важность в этой связи приобретает гендерный анализ, который ставит проблемы различий в заболеваемости, продолжительности жизни, смертности, влияния образа жизни на здоровье женщин и мужчин, а также стереотипов их самооценки здоровья.
Исследование, выполненное по данным Федеральной сл у жбы государственной статистики,1 показало, что общие количественные индикаторы свидетельствуют об улучшении здоровья населения России — за 2014-2016 гг. выросла средняя продолжительность жизни, сократилась смертность, уменьшился гендерный разрыв, однако специальные коэффициенты и качественные показатели говорят не просто о неравномерности проявления этой тенденции для разных категорий населения, но даже о ее противоречивости, т.к. ухудшилась повозрастная смертность мужчин, усилилась региональная дифференциация и проч.
Общей тенденцией можно назвать продолжающееся снижение потенциала здоровья российского населения, выявленное Н.М. Рима-шевской в начале 2000-х гг. [3].
На макроэкономическом уровне здоровье выступает как популяционное здоровье, которое во многом зависит от доступности государственной системы здравоохранения. Еще в конце ХХ века в странах, завершающих эпидемиологический переход, прекратилось снижение заболеваемости и смертности, что было оценено как исчерпание возможностей общественного здравоохранения, особенно ощутимое при ограниченном государственном финансировании. Это привело к росту затрат населения на услуги здравоохранения, которые жестко структурируются по индивидуальным доходам — самые обеспеченные расходуют на лечение в несколько раз больше, чем самые бедные [4. С. 29]. Поскольку потребности в сохранении здоровья от дохода не зависят, доля расходов на медицинскую помощь и покупку лекарств возрастает с уменьшением дохода семьи — население с доходами ниже прожиточного минимума тратит на это втрое большую часть своих доходов, чем население с наивысшими доходами [5]. В таких условиях возрастает осознание ответственности человека за свое здоровье, т.е. само-сохранительного поведения, основанного на формировании установок по укреплению собственного здоровья и профилактике заболеваний.
Важность самосохранительного поведения была отмечена еще в 1985 г., когда ВОЗ приняла концепцию «Здоровье для всех к 2000 году», определившую стратегию и тактику всех развитых стран по созданию условий для обеспечения и развития здоровья населения. Одним из ком- понентов этой стратегии стала деятельность в области охраны здоровья, адаптированная к потребностям и возможностям отдельных стран, их социальным, культурным и экономическим системам; кроме индивидуального самосохранительного поведения, сюда были включены государственная политика здравоохранения, благоприятная окружающая среда, общественное мнение [6], что способствовало восстановлению общей тенденции снижения уровней заболеваемости и смертности.
Самосохранительное поведение приобретает особое значение на фоне массового роста неинфекционных заболеваний (НИЗ), распространение которых во всем мире приобрело характер эпидемии с высокой летальностью. ВОЗ объединяет в НИЗ сердечно-сосудистые заболевания (инсульт, инфаркт и проч.); злокачественные новообразования (онкологические заболевания); хронические респираторные заболевания (хроническая обструктивная болезнь легких, астма и проч.); диабет. В РФ в 2015 г. на долю НИЗ (без диабета) пришлось более 2/3 смертей (в трудоспособном возрасте этот показатель составлял около половины). Заболеваемость НИЗ растет быстрее, чем другими болезнями: 104,9 и 103,9% за 2010-2014 гг., соответственно; более всего это касается сахарного диабета (123,6%) и новообразований (110,7%), особенно злокачественных, в группе 20-39 лет (108,9% для впервые установленных диагнозов).
Здоровье в жизненном цикле населения
Базовые характеристики здоровья человека определяются при рождении и формируются до начала тру- доспособного возраста, в течение 15 лет, на протяжении которых параметры качества населения меняются неоднократно в связи с последовательным выполнением на данном этапе жизненного цикла трех функций: самосохранительной (здоровье), образовательной (обучение) и репродуктивной (рождаемость). Здоровье российских детей различается по возрасту — наиболее благоприятной можно считать ситуацию среди новорожденных и детей первого года жизни, о чем свидетельствует снижение младенческой смертности (6,5о/оо и 6,Оо/оо на начало 2015 и 2016 годов).
Это подтверждают показатели новорожденных, родившихся больными и заболевшими: их число сократилось за 2013-2016 гг. с 630113 человек до 597155 (на 5,2%), а «маловесных» (с массой тела 500-999 г) — с 6871 человек до 6645 (на 3,3%), а доля их в общем числе новорожденных почти не изменилась.
Структура заболеваемости детей первого года жизни достаточнo стабильна, при этом число заболеваний, зарегистрированных у них в 2015 г., сократилось на 6,4% по сравнению с 2008 г. (до 4399478 случаев) (табл. 1).
Таблица 1
Структура заболеваемости детей первого года жизни в 2008, 2013, 2015 гг., %
Structure of morbidity among children of the first year of life in 2008, 2013, 2015, %
Table 1
|
Болезни |
2008 г. |
2013 г. |
2015 г. |
|
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни |
2,7 |
2,41 |
2,34 |
|
Новообразования |
0,58 |
0,79 |
0,86 |
|
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм |
4,48 |
3,75 |
3,75 |
|
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ |
3,28 |
2,53 |
2,34 |
|
Психические расстройства и расстройства поведения |
0,03 |
0,003 |
- |
|
Болезни нервной системы |
7,77 |
8,38 |
8,95 |
|
Болезни глаза и его придаточного аппарата |
3,3 |
3,68 |
3,95 |
|
Болезни уха и сосцевидного отростка |
1,58 |
1,5 |
1,47 |
|
Болезни системы кровообращения |
0,23 |
0,34 |
0,33 |
|
Болезни органов дыхания |
42,91 |
46,76 |
47,51 |
|
Болезни органов пищеварения |
5,78 |
5,5 |
5,77 |
|
Болезни кожи и подкожной клетчатки |
3,59 |
3,92 |
4,01 |
|
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани |
0,73 |
0,87 |
0,93 |
|
Болезни мочеполовой системы |
1,91 |
1,98 |
2,03 |
|
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде |
16,24 |
13,22 |
11,76 |
|
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения |
2,93 |
2,8 |
2,97 |
|
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках |
1,22 |
0,97 |
0,47 |
|
Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин |
0,65 |
0,58 |
0,56 |
|
Итого |
100 |
100 |
100 |
Источник : рассчитано по:
Выделяется неблагоприятная динамика по заболеваниям, которые позже начнут увеличивать НИЗ: новообразования с полуторным ростом доли в общей структуре заболеваемости (на 0,3 п.п. — с 23868 до 37871 случая), болезни системы кровообращения (на 0,1 п.п., с 9249 до 15004 случаев), болезни органов дыхания (на 4,6 п.п., с 1767882 до 2090177 случаев). Рост показателей по остальным болезням — нервной системы (на 1,2 п.п., с 319904 до 393611 случаев), глаза и его придаточного аппарата (на 0,7 п.п., с 135765 до 173612 случаев), кожи и подкожной клетчатки (на 0,4 п.п., с 147833 до 176296 случаев), костно-мышечной системы и соединительной ткани (на 0,2 п.п., с 29983 до 40727 случаев), мочеполовой системы (на 0,1 п.п., с 78413 до 89391 случая) связывается с достаточно стабильным числом маловесных и недоношенных новорожденных.
Проблемы более старших детей возникают в связи с несоблюдением графика вакцинации, режима питания и проч.: детей быстро переводят на семейный стол, что нередко приводит к нарушениям пищевого, нервно-психического и иммунного статуса, развитию алиментарно-зависимых состояний, дисфункциям желудочно-кишечного тракта. Региональные исследования в Мурманской (2014 г.) и Московской (2010-2016 гг.) областях зафиксировали почти у половина школьников хронические болезни, частота которых увеличивается с возрастом (заболевания костномышечной системы, органа зрения, системы пищеварения) и недостаточную физическую активность из-за чрезмерного увлечения компьютером, что делает здоровье серьезным препятствием для освоения учебного материала у 70% опрошенных. На этом фоне особенно неблагоприятной выглядит тенденция к снижению удовлетворенности медицинской помощью детям, которая стала очевидной после активизации реформы здравоохранения: в 2015 г. 11,4% респондентов, имеющих детей в возрасте до 15 лет, не были удовлетворены качеством бесплатной медицинской помощи, оказываемой детям по месту жительства (в 2013 г. таких было 9,2%).
После семьи и школы наиболее значимыми для социального здоровья становятся высшие учебные заведения, поскольку дают человеку не только профессию, но и важные общественные ориентиры, ценности и приоритеты.
Мотивация пребывания на студенческой скамье часто связана не с учебой, а со стремлением находиться среди сверстников и иметь поддержку внутри своей социальной группы, поэтому студенты прологнируют поисковый период для определения оптимального старта карьеры, превращая высшее образование в «подушку безопасности» на пути во взрослую жизнь и гарантию занятости. Наиболее талантливая молодежь часто характеризуется особым психическим складом: завышенными амбициями, ориентацией на сверхдостижения и проч., но около 70% студентов имеют психические расстройства и аномалии развития [7]. На выходе из вузов ожидания большинства выпускников, связанные с возможностью иметь постоянную работу с гарантированной оплатой и достойными условиями труда, в отличие от «прекариального», т. е. «размытого»
труда с фактически круглосуточной занятостью, часто не оправдываются.
В условиях демографического старения и сокращения населения в трудоспособном возрасте особую важность приобретают вопросы сохранения жизни и здоровья работников. В России до сих пор сохраняются территориальные различия занятости на тяжелых и вредных рабочих местах, усиливаются диспропорции по условиям труда, обусловленные хозяйственной структурой и занятости в регионах с преобладанием добывающих и обрабатывающих отраслей в северных и северо-восточных районах. Неудовлетворительным остается состояние условий и охраны труда в сфере малого бизнеса, где численность погибших в результате несчастных случаев на производстве на 1000 занятых (0,122) почти вдвое превысила значение данного показателя в целом по России (0,062) [8].
В последние годы законодательство в сфере охраны труда и здоровья работников начало меняться, с 2014 г. вместо аттестации рабочих мест введена обязательная для всех отраслей и рабочих мест специальная оценка условий труда, что соответствуют мировым тенденциям2. Были разработаны специальные показатели частоты травматизма и частоты несчастных случаев со смертельным исходом, которые оказались в несколько раз ниже, чем в других странах БРИКС. За последние десять лет число погибших на производстве россиян сократилось вдвое, однако при этом существуют региональные раз- личия: почти в каждом четвертом регионе ситуация с условиями труда остается неблагоприятной и даже ухудшается, увеличивая смертность на производстве; показатель числа человеко-дней нетрудоспособности на одного пострадавшего на производстве в 2014 г. увеличился до 48,7 дней против 46,7 дней в 2008 г. Это вносит свой вклад в смертность населения трудоспособного возраста, уровень которой в настоящее время превышает показатель 1990 г., что говорит о существенных резервах для сохранения населения и трудового потенциала России.
Одной из проблем здоровья населения трудоспособного возраста остаются нарушения репродуктивного здоровья, которые встречаются реже, чем НИЗ, но имеют большую демографическую значимость, поскольку препятствуют росту рождаемости. Здесь важны такие аспекты как вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), аборты и инфекции, передаваемых половым путем (ИППП), в том числе ВИЧ. ВРТ направлены на увеличение числа родившихся и изменение их качества, аборты, напротив, снижают потенциальное количество новорожденных, ИППП и ВИЧ непосредственно не влияют на количественные параметры рождаемости, но ухудшают качественные, поэтому тенденции развития этих компонентов репродуктивного здоровья сегодня различны.
ВРТ становятся популярнее — в 2015 г. доля детей, родившихся после ВРТ в России, составила не менее 1,5% против 0,93% в 2013 г. [9. С. 76]. Этому способствовало включение ВРТ в систему ОМС, сделавшее их более доступными, однако одновре- менно возникли и новые вопросы, связанные с возможностью выбора пола ребенка при ЭКО, этикопсихологическими проблемами репродуктивного донорства и суррогатного материнства, с взаимодействием врача и пациента в программах ВРТ, поздним материнством.
Несмотря на стабильную тенденцию снижения числа абортов в России (до 848180 в 2015 г.), в 2016 г. оживилось общественное обсуждение проблемы искусственного прерывания беременности. По результатам опроса ВЦИОМ, почти каждая десятая женщина в России делала аборт, и за исключение абортов из системы ОМС высказались 21% респондентов, 4% считают аборты недопустимыми ни при каких обстоятельствах, 72% выступают против идеи полного их запрета. Основные причины для прерывания беременности — угроза жизни и здоровью женщины (60% респондентов), тяжелое материальное положение (51%), сексуальное насилие (46%), бедность семьи (37%). За право на аборт при любых обстоятельствах высказались 28%. Среди негативных последствий отмечают появление подпольных абортов (31%), беспризорность (13%), перенаселение и рост смертности (по 11%) [10].
Не теряет остроту проблема ВИЧ, инфицированность которым с 2006 г. растет ежегодно на 10%. В 2015 г. лишь каждый пятый россиянин был освидетельствован на ВИЧ (около 30 млн. человек), а антиретровирусной терапией охвачено лишь 216981 человек, хотя согласно Глобальной стратегии ВОЗ по ВИЧ на 2016-2021 гг. для прекращения эпидемии необходимо выявлять не менее 90% от возможного числа всех ВИЧ-инфицированных и обеспечивать не менее 90% из них антиретровирусной терапией [11].
Общей демографической характеристикой сегодня является старение населения — в России пожилые и старые люди составляют более трети населения, а 13,5% граждан достигли возраста 65 лет. Процесс демографического старения России обусловлен в первую очередь не увеличением продолжительности жизни, как в большинстве развитых стран, а низкой рождаемостью и высокой смертностью в трудоспособном возрасте, из-за чего вероятность при рождении дожить до 65 лет составляет 78,0% для российских женщин и 48,4% для мужчин. Это существенно ниже, чем в Японии (93,0% и 85,0%, соответственно), Норвегии (90,8% и 83,5%), США (86,4% и 78,1%), Китае (81,3% и 72,7%) [12], что ставит новые задачи перед отечественным здравоохранением.
Институциональные аспекты здоровья: ответы государства на потребности населения
Система здравоохранения формирует условия и возможности охраны здоровья для всех граждан, и главной задачей становится обеспечение всем равного потребления медицинских услуг в соответствии с реальными потребностями граждан. Это невозможно без финансирования здравоохранения, которое за постсоветский период сократились примерно вдвое, до 3,7-3,9% ВВП [13], что потребовало реформирования всей системы оказания медицинской помощи. Реформы, с одной стороны, имели целью стандартизацию диагностики и лечения, обеспечивающие одинаковый доступ к современным методам сохранения и восстановления здоровья, а с другой — ориентировались на повышение ответствен- ности населения за свое здоровье и развитие самосохранительного поведения. Эти процессы протекают неравномерно, институциональный переход опережает изменение индивидуальных патерналистских традиций, приводя к разрыву между потребностями населения и возможно- стями государства удовлетворить их. Так, в 2016 г. 0,5% детей до 18 лет, нуждающихся в медицинской помощи, не получили ее, и изменения тенденции пока не наблюдается: в 2011 г. таких детей было 0,7%, в 2014 г. — 0,8%. Отчасти причина была в реструктуризации сети лечебно-профи-
Сеть медицинских учреждений в РФ в 2011-2016 гг.
Table 2
Network of medical institutions in the Russian Federation in 2011-2016
|
Год |
Число больничных организаций, тыс. ед. |
Число больничных коек |
Число врачебных амбулаторнополиклинических организаций, тыс. ед. |
Мощность врачебных амбулаторнополиклинических организаций, посещений в смену |
||
|
Всего, тыс. коек |
На 10000 человек |
Всего, тыс. посещений |
На 10000 человек |
|||
|
2011 |
6,3 |
1347,1 |
94,2 |
16,3 |
3727,7 |
260,6 |
|
2012 |
6,2 |
1332,3 |
92,9 |
16,5 |
3780,4 |
263,7 |
|
2013 |
5,9 |
1301,9 |
90,6 |
16,5 |
3799,4 |
264,5 |
|
2014 |
5,6 |
1266,8 |
86,6 |
17,1 |
3858,5 |
263,8 |
|
2015 |
5,4 |
1222 |
83,4 |
18,6 |
3861 |
263,5 |
|
2016 |
5,4 |
1197,2 |
81,6 |
19,1 |
3914,2 |
266,6 |
Источник.
Актуальным остается гендерное неравенство в здравоохранении. Хотя охрана здоровья по Конституции РФ не обусловлена полом, женщины, в силу биологических особенностей, лактических учреждений, которая заметно изменилась в пользу амбулаторной помощи — с момента активизации реформы в 2011 г. число больничных организаций в 2016 г. уменьшилось на 14,3%, а амбулатор- но-поликлинических выросло на 17,2%, но число больничных коек уменьшилось на 11,1%, а амбулаторно-поликлиническая мощность возросла лишь на 5% (табл. 2).
Таким образом, очевиден даже количественный разрыв — половина из пациентов, не принятых на стаци- онарное лечение, не сможет получить его и в амбулаторном формате; выход из положения возлагается на «дистанционное здравоохранение», эффективность которого прямо зависит от уровня самосохранительного поведения населения.
Таблица 2
больше пользуются медицинскими услугами; особенно важны здесь гарантии репродуктивных прав — права на материнство, на предотвращение и прерывание нежелательной беременности и прочее. При этом женщины демонстрируют повышенный уровень нездоровья из-за ограниченности доступа к здоровьесберегающим ресурсам и стресса, вызванного спецификой гендерных и семейных ролей. Препятствия, с которыми сталкиваются женщины, включают отсутствие культурно адаптированных форм оказания медицинской помощи, нехватку ресурсов, и даже запрет со стороны членов семьи, в результате чего при дефиците семейного бюджета потребности женщин в поддержании здоровья удовлетворяются в последнюю очередь. Вынужденный отказ от медицинских услуг, как и реструктуризация формы оказания услуг в сторону роста амбулаторно-поликлинических услуг и сокращения стационарного лечения, увеличивают гендерную асимметрию, так как вслед за этим увеличивается нагрузка женщин в домохозяйстве; особенно это касается работающих женщин молодого и среднего возраста. Для здравоохранения как отрасли экономики ситуация осложняется ярко выраженной феминизацией отрасли, где женщины составляют 79% занятых. У мужчин также есть особенности, способствующие формированию неравенства в здоровье, например, их психическое здоровье во многом определяется положением в обществе, но не связано с образованием и уровнем материальной обеспеченности.
Институциональные изменения в системе здравоохранения, направленные на увеличение ее эффективности и расширение охвата населения различными формами медицинского обслуживания должна учитывать различия рисков для здоровья и дифференцированные потребности женщин и мужчин.
Традиции самосохранительного поведения в России еще не сформированы, поскольку население вынуждено вкладывать «здоровье в доход», а не «доход в здоровье», как в развитых странах — у россиян нет дохода, который можно вкладывать в свое здоровье. Проведенное в 2013 г. во всех субъектах РФ «Выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения» показало влияние массовых поведенческих факторов, распространенных в образе жизни россиян, на состояние здоровья различных по возрасту, полу, социальному статусу (уровень образования, доходов, сфера занятости), месту проживания групп населения. К важнейшим социальным ценностям респонденты отнесли здоровье, семью, материальное благополучие, работу, образование.
Хорошее здоровье получило высший балл (4,6 из 5) у 68,1% женщин и 56,9% мужчин. Лишь 16,8% всех опрошенных не считали, что состояние их здоровья зависит, прежде всего, от них самих, но по достижении пенсионного возраста этот показатель увеличивается до 28,5%, что связано с высоким уровнем заболеваемости пожилых, с «влиянием прежних стереотипов сознания об ответственности системы здравоохранения за здоровье населения» и несоответствием структуры социальных институтов, которая определяет состояние общественного здоровья на различных этапах жизненного цикла населения. Состояние собственного здоровья на основе медицинского обследования и самочувствия оцени- вают лишь 33,7% всех опрошенных, из них 53,8% считают его достаточным, а более 30% пожилых — плохим и очень плохим.
Устойчивое демографическое старение обусловило принятие Правительством РФ в 2016 г. «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», где отмечается, что «около 80% лиц старшего поколения страдают множественной хронической патологией. В среднем у одного пациента старше 60 лет обнаруживается четыре-пять различных хронических заболеваний. Затраты на медицинскую помощь пациенту 70 лет и старше в семь раз превышают стоимость лечения 16-64-летних» [14]. В связи с этим потребность в оказании первичной медикосанитарной и специализированной медицинской помощи у граждан старшего поколения выше, чем у лиц трудоспособного возраста, что обусловливает создание принципиально новой системы гериатрической медицинской помощи: существующая гериатрическая служба не соответствует ни возрастающим запросам населения, ни экономико-технологическим возможностям государства удовлетворить их. Такая ситуация характерна не только для России: ВОЗ отмечает, что «большинство систем здравоохранения в мире не подготовлены для удовлетворения потребностей пожилых людей, которые часто страдают множественными хроническими состояниями или гериатрическими синдромами. Системы должны обладать возможностями для оказания комплексной медицинской помощи, ориентированной на потребности пожилых людей, и поддерживать такие возможности по мере старения населения» [16].
Список литературы Здоровье населения: от индивидуальной ценности до базового фактора общественного развития
- Преамбула к Уставу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)./ Официальные документы Всемирной организации здравоохранения. 1948. № 2. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.who.int/suggestions/faq/ru/.
- Вайнер Э.Н. Валеология. - М.: Флинта: Наука. 2001. - 416 с.
- Римашевская Н.М. Социальная политика сбережения народа // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. - 2010. - № 5 (110). - С. 75-82.
- Шишкин, С.В., Потапчик, Е.Г., Селезнева, Е.В. Оплата пациентами медицинской помощи в российской системе здравоохранения - М.: ИД Высшей школы экономики, 2014. - (Серия WP8 «Государственное и муниципальное управление»). - 48 с.
- Ибрагимова Д., Красильникова М., Овчарова Л. Участие населения в оплате медицинских и образовательных услуг // ВЦИОМ. Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные перемены. Март-апрель. - 2000. - № 2 (46).