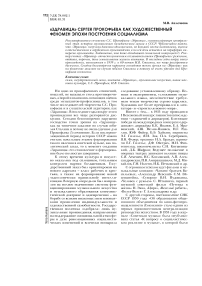«Здравица» Сергея Прокофьева как художественный феномен эпохи построения социализма
Автор: Аплечеева Мария Владимировна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Мир художественной культуры
Статья в выпуске: 3 (28), 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается сочинение С.С. Прокофьева «Здравица», символизирующее центральный этап истории музыкального политического заказа в СССР. Чрезвычайно важно, что «Здравица» получила довольно однозначные, по большей части негативные, оценки в отечественном и зарубежном музыковедении и по сей день остается на периферии интересов музыковедов. Любопытно, что даже обладавший гениальной интуицией С. Рихтер считал «Здравицу» отчасти циничным соглашательством Прокофьева с режимом, отдавая, впрочем, дань гениальности музыки кантаты. В последние годы вокруг этого произведения, написанного в 1939 г. к 60-летию И.В. Сталина, все чаще разгораются дискуссии. Сегодня безоговорочно нарушено господство точки зрения на «Здравицу» как на типичное заказное по случаю юбилея Сталина и потому не очень удачное для Прокофьева сочинение.
Гимн, государственный заказ, кантата "здравица", музыкальное искусство, новая массовая культура, с.с. прокофьев, и.в. сталин
Короткий адрес: https://sciup.org/14031580
IDR: 14031580 | УДК: 78.082.1
Текст научной статьи «Здравица» Сергея Прокофьева как художественный феномен эпохи построения социализма
Terra Humana
Ни одно из прокофьевских сочинений, пожалуй, не вызывало столь противоречивых, а порой и взаимоисключающих оценок среди музыкантов-профессионалов, в том числе исследователей творчества С.С. Прокофьева и в слушательской аудитории, как «Здравица». В последние годы вокруг этого произведения все чаще разгораются дискуссии. Сегодня безоговорочно нарушено господство точки зрения на «Здравицу» как на типичное заказное по случаю юбилея Сталина и потому не очень удачное для Прокофьева (!) сочинение. Если послереволюционный период истории СССР можно считать начальным этапом формирования такого явления в советской музыке, как политический заказ, то к моменту создания «Здравицы» его становление и формирование было полностью завершено.
К этому времени культура и искусство оказались под сплошным, тотальным контролем партии большевиков. Государственный заказ был ориентирован на нового адресата – класс рабочих и крестьян, а также на формирование новой «идеологически правильной» интеллигенции. В первую очередь он был направлен на полное подчинение системы функционирования музыкального искусства и музыкального образования коммунистической доктрине и одновременно – на борьбу со всяким инакомыслием и попытками проявления индивидуальности и художественной самобытности. Государственная политика «одобряла» лишь музыкальные произведения, направленные на поддержание эмоциональной атмосферы в духе революционных социалистических изменений и всячески поощряла следование установленному образцу. Поиски и эксперименты, усложнение музыкального языка, несоответствие требуемым темам творчества сурово карались. Художник все более превращался в «агитатора» и «строителя нового мира».
Вместе с тем,… в 1933 году проводится I Всесоюзный конкурс пианистов (впоследствии – скрипачей и дирижеров). Блестящие победы на международных конкурсах одерживают: дирижёры К.К. Иванов, Е.А. Мра-винский, А.Ш. Мелик-Пашаев, Н.Г. Рахлин, Ю.Ф. Файер, Б.Э. Хайкин; пианисты Э.Г. Гилельс, Я.И. Зак, П.А. Серебряков, Я.В. Флиер; органист И.А. Браудо; скрипачи Е.Г. Гилельс, Д.Ф. Ойстрах, М.И. Фихтенгольц; виолончелисты С.Н. Кнушевицкий, Д.Б. Шафран; Ведущее положение в оперных театрах занимают великие певцы С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Л.П. Александровская, П.В. Амиранашвили, М.Д. Михайлов, Г.М. Нэлепп, Н.К. Печковский и др.
С огромным успехом идут фильмы и музыкальные комедии: «Чапаев» братьев Васильевых, «Александр Невский» С.М. Эйзенштейна, «Суворов» В.И. Пудовкина, «Человек с ружьем» С. Юткевича, первый звуковой советский фильм «Путевка в жизнь» Н. Экка, «Цирк», «Веселые ребята», «Волга-Волга» Г. Александрова и др.
С другой стороны, постановление СНК СССР 1930 года «Об образовании общесоюзного объединения по кино-фотопромышленности (Союзкино)» стало одним из первых провозвестников централизации руководства искусством. В 1933 году в журнале «Советская музыка» была опубликована статья «К вопросу о социалистическом реализме в музыке», в которой были выделены основные задачи социалистического реализма в музыке, такие как реалистичность, искренность, правдивость, массовость.
Одной из черт (новой массовой культуры), отличающих произведения советских авторов, был «заранее предопределенный смысл». Кроме того, для поддержания концепции «Сталин – это Ленин сегодня» и преувеличения роли Сталина в истории многие исторические факты подвергаются «переосмыслению» и искажению. Борьба с «формализмом» и «натурализмом» достигает своего апогея, захватив в той или иной мере все сферы искусства. На первое место выходят «коллективность», «массовость» сознания и творчества, что приводит к снижению числа «интеллектуальных» произведений и увеличению объема «прикладных» сочинений.
Идеологической точкой в этом процессе явились доклад И.В. Сталина [9], повторившего свой тезис об «обострении классовой борьбы по мере строительства социализма»1 и его же Заключительное слово 5 марта на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 г. [10].
В творчестве Сергея Прокофьева направление политического заказа представлено как кантатно-ораториальными, так и симфоническими произведениями. Работа в данном русле охватывает весьма значительную часть творческой биографии композитора – от монументальной «Кантаты к XX-летию Октября» (первой в этом списке) до почти камерной кантаты-песни «Зимний костер» и замыкающей список оратории «На страже мира». В общей сложности Прокофьевым написано одиннадцать «сочинений по случаю».
«Здравица», написанная в 1939 году к 60-летию Сталина, регулярно исполнялась и в последующие дни рождения вождя, впрочем, сам юбиляр, по неподтвержденной документально информации, от музыкального подарка остался не в восторге.
С самого момента создания и едва ли не до наших дней кантату не то, чтобы не принимали в расчет, - ее просто поместили где-то на периферии отечественного и зарубежного прокофьеведения. Лишь в последние годы на смену по преимуществу эпизодическим упоминаниям, наконец, пришел устойчивый профессиональный интерес к этому незаслуженно забытому шедевру. Речь идет о работах И.Г Вишневецкого [1; 2], Р. Тарускина [16], Е.В. Вой-цицкой [3; 4], А.В. Ляховича [6], В.М. Шпа-кова [11], Е.Г. Кретовой [5].
Одна из глав объемного исследования Вишневецкого посвящена разбору «Здра- вицы». В разделе «Неоязыческий синтез и отстранение: “Здравица” (1939)». Он пишет: «Еще более мифологична (и мифо-генна) “Здравица” к шестидесятилетию Сталина <...> Историческая ирония заключается в том, что Прокофьев - в прошлом излюбленная мишень скрябиниан-цев и провинциальных модернистов от пролетарской музыки - именно в прославляющей “вождя народов” кантате исполняет их мечту о “создании здоровой эротической музыки, бодрой любовной песни”, непременно в мажорном ключе, способствующей упрощению и оздоровлению взгляда молодежи на половые отношения. Такая музыка может иметь значение громадного агитационного фактора за создание новой, здоровой пролетарской этики» [2, с. 131].
На сегодняшний день в оценке «Здравицы» существуют две противоположные точки зрения. Одна из них представлена в статье Р. Тарускина2, вышедшей после исполнения «Здравицы» В. Гергиевым в 1996 году на Фестивале в Америке в Линкольн-Центре. Автор вступает в полемику с В. Гергиевым и делает следующие категоричные заявления: «Что это могло означать в 1996 году? - Пятом году нового мирового порядка после краха СССР – исполнять и энергично … аплодировать худшим “музыкальным отбросам”, славящим культ личности Сталина? Что это могло значить – бросать в воздух шляпы под Прокофьевскую “Кантату к 20-летию Годовщины Октябрьской революции”? Сочиненная в черном 1937 году, в разгар репрессий, кантата заканчивается восхвалением “Сталинской конституции”, которая гарантировала гражданам СССР право на труд, а в это же самое время тысячи советских людей отправлялись в сибирские лагеря и обрекались на каторжный труд»3 [16].
Подобная же точка зрения содержится в интервью С. Рихтера Б. Монсенжо-ну: «Но с принципами он был не в ладах, вполне мог написать музыку на заказ, например “Здравицу” — заказанную ему к очередному юбилею Сталина хвалебную оду…» [7, с. 50].
Полагаю, что полностью согласиться с этими точками зрения нельзя, по причинам, о которых речь пойдет позже.
Во многом противоположный взгляд на «Здравицу» содержится в статье А. Ля-ховича, где автор относит «Здравицу» к числу произведений высочайшего художественного уровня: «с официозной “соц-реалистической” музыкальной культурой “Здравица” не связана ни прямо, ни косвенно». Автор не проводит «интонаци-
Общество
онных параллелей с «народопесенной» стихией парадов и славословий», а напротив, считает «Здравицу» оригинальным, сугубо прокофьевским явлением. Однако, отмечает Ляхович, «оригинальность и новизна “Здравицы” не связаны напрямую и с сатирой, выступающей установкой – залогом художественной ценности во многих артефактах “советского/анти-советского” дискурса. Скрытая, эзопова сатиричность присуща кантате в деталях, но не определяет ее замысла» [6].
Присоединяясь в целом к оценке, содер жащейся в этой – довольно развернутой
Terra Humana
цитате, не могу не указать на некоторую прямолинейность аналитического подхода, во многом навязывающую Прокофьеву позицию исследователя.
В известном смысле точку зрения А. Ляховича предвосхитила украинский музыковед Е. Войцицкая: «следует отметить, что композитор сам с оптимизмом шел навстречу этому запросу. <...> Особенность довоенного советского творчества Прокофьева, между прочим, и состояла в том, что он экспериментировал, искал тот стиль и подход к раскрытию советской темы, которые соответствовали бы ожиданиям слушателей и цензоров и при этом удовлетворяли бы самого композитора» [4, с. 154–164].
Очевидно, что крайности в оценке прокофьевской «Здравицы», из которых одна сводится к тому, что кантата представляет собой некое «послание» на эзоповом языке, а вторая, сформулированная Р. Таруски-ным, трактует «Здравицу» как сочинение верноподданнически настроенного или лицемерящего композитора, в равной мере не отвечают действительному положению вещей! Прежде всего, потому, что представить себе сочинение одного из величайших гениев XX столетия, написанное к юбилею руководителя государства, чем-то вроде «фиги в кармане»4 означает просто недооценивать масштаб личности и дарования композитора.
По той же причине невозможно себе представить «Здравицу» как верноподданническое славление «Великого Вождя народов». Может быть, именно в «Здравице», что кажется весьма парадоксальным, наиболее очевидно проявила себя творческая и этическая позиция композитора, гениально воплощенная кантате. Позиция эта заключается в том, что в огромном многомерном прокофьевском мире есть тщательно оберегаемая композитором территория, недоступная иронии, сарказму и - тем более - гротеску. Это - территория лирического чувства, представлен- ная в «Здравице» изумительно красивым и выразительным тематизмом, справедливо связываемая исследователями «Здравицы» с лучшими лирическими страницами его опер и балетов.
Если попытаться систематизировать или, по крайней мере, сгруппировать по какому либо принципу приведенные выше суждения о прокофьевском творении, то принципом этим будет вовсе не «Pro et Contra»! Парадокс заключается в том, что среди тех, кто восторгается «Здравицей», равно как и среди тех, кто отказывает этому сочинению в художественной и эстетической значимости, нет единства в мотивах его оценки. Восторгаются «Здравицей» и Рождественский, и Гергиев, но по разным причинам. Рождественский считает, что это «издевка» Прокофьева [8], в то время как Гергиев относится к этому сочинению абсолютно серьезно [13].
Думается, что пара оппозиций из суждений о кантате здесь составляется совсем по иному признаку и выглядеть должна следующим образом:
-
1 . Прокофьев создает мастерский, хотя с изрядной долей цинизма, заказной опус, посвященный определенной теме и имеющий совершенно конкретный сюжет, каковые он весьма подробно и детализировано воплощает.
-
2 .К юбилею «Вождя» композитор создал (пользуясь конкретным поводом) обобщенное - в чем-то сродни притче - гениальное произведение, универсальное и имеющее очевидную общечеловеческую направленность. Эта позиция на сегодняшний день – в меньшинстве. Но в ее пользу свидетельствует слишком многое в кантате. Это и индифферентное отношение Прокофьева к тексту и внутренняя сложность, несмотря на видимую ясность, музыкальной драматургии и особое свойство тематизма.
Драматургическое совершенство «Здравицы», безусловно, допускает ее толкование, в том числе, как сочинения гимнического предназначения. Но гимн этот адресован отнюдь не «Вождю Народов». Это гимн человеческому чувству, «светлому и возвышенному», вместе с тем, чрезвычайно уязвимому и беззащитному перед агрессией «тупой» и безликой силы. Невозможно представить себе прокофьевскую «Здравицу» в виде своего рода памфлета, написанного эзоповым языком. Прежде всего, потому, что за внешним музыкальным рядом кроется своя внутренняя драматургия, связанная с претворением метода «встречного жанра», приема, в результате которого очевидная на пер- вый взгляд жанровая модель с присущим ей музыкально-смысловым содержанием входит в противоречие с контекстом, в который ее «погружает» автор. Такого рода примеров находим в «Здравице» множество: от меняющих драматическую окраску до, порой, почти комических. Например, гаммообразное распевание в финале кантаты слов «много, Сталин, вынес ты невзгод», вследствие угрожающе агрессивного, механического музыкального воплощения этого текста и, несмотря на отчетливо выраженный «величальный» смысл текста и «праздничный» до мажор, звучит отнюдь не ликующе, а скорее трагически. С другой стороны текст «Ой, бела, бела в садочках вишня как туман бела, жизнь моя весенней вишней расцвела» в исполнении басов выглядит едва ли не комически. Кроме того, тематический материал кантаты часто изначально двойствен, даже фактура его изложения зачастую парадоксальна. В оркестровом ряду сплошь и рядом возникают контридеи, образы, краски, которые создают драматический эффект расслоения целого, в условиях которого, например, звучащее мажорное tutti в кульминации вовсе не свидетельствует о победе света. Точно так же как текст: «Сам дает советы мудрые», поддержанный струнной и всей медной группой, получает в музыке Прокофьева воплощение в чуть ли не «издевательских» выкриках в хоровой партии.
Безусловное влияние на драматургию «Здравицы» оказала специфика прокофьевского симфонического мышления с преобладанием «монтажного» метода. В работе с текстом устойчивым приемом является создание музыкальными средствами не явного, требующего прояснения второго смыслового плана. Это противополагание характеризует взаимоотношение слова и музыки, слова и объявленной жанровой музыкальной модели. Нивелируя текст, смещая акцент со слова на музыку, композитор тем самым часто дезавуирует смысл вербального текста. В освобожденное же место проникает эмоция, воплощение которой нередко оказывается в явном противоречии со словом. Таким образом, слово перестает выполнять вербальную функцию.
Музыкальное приношение Сергея Прокофьева – явление огромное и, как ни странно, мало изученное. Несомненно, что в большинстве своих работ, так или иначе связанных с политическим заказом, Прокофьев не позволял себе снижать как художественную, так и «профессиональную» планку. По совершенству исполнения кантаты «К XX-летию Октября» и «Здравица», несомненно, относятся к вершинам творчества гениального композитора. Что же касается их драматической истории, то одной из основных причин этого является, на наш взгляд, противоречие между заказной природой происхождения этих кантат и их великой музыкой.
Список литературы «Здравица» Сергея Прокофьева как художественный феномен эпохи построения социализма
- Вишневецкий И.Г. Сергей Прокофьев//Жизнь замечательных людей: Серия биографий. Вып. 1200. -М.: Молодая гвардия, 2009. -703 с.
- Вишневецкий И.Г. Евразийский вызов: Диалектика сотворяемого мифа: Кантата к ХХ-летию Октября//«Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов: История вопроса: статьи и материалы А. Лурье, П. Сувчинского, И. Стравинского, В. Дукельского, С. Прокофьева, И. Маркевича. -М.: НЛО, 2005. -512 с.
- Войцицкая Е.А. «Здравица»: Прокофьев -Сталину//Киiвське музикознавство: Збiрка статей. Вип. 27. -Киев, 2008. -С. 198-207.
- Войцицкая Е.А. Советские опусы Прокофьева: демарш или китч? (на примере сюиты «Песни наших дней» и кантаты «Здравица»)//Музикознавчi студii iнституту мистецтв Волинського нацiонального унiверситету та Нацiональноi музичноi академii Украiни. Вип. 3. -Луцьк, 2009. -С. 154-164.
- Кретова Е.Г. Прокофьев и Сталин//Московский Комсомолец. -2003, 4 марта.
- Ляхович А. Смысловые парадоксы «Здравицы» Прокофьева (к вопросу об отношении слова и музыки)//Израиль XXI. -2009, № 14 (февраль). -Интернет-ресурс. режим доступа: www.21israel-music.com/Zdravica.htm (24.02.2012)
- Монсенжон Б. Рихтер. Дневники, диалоги. -М.: Классика XXI, 2007. -480 с.
- Пантиелев Г. Интервью с Геннадием Рождественским//Советская музыка. -1991, № 4. -С. 8-24.
- Сталин И.В. О недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников, Доклад и заключительное слово на Пленуме ЦК ВКП(б), 3 и 5 марта 1937 г.//О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников. -РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, д. 1084, лл. 1-34. (Подлинник с правками И.В. Сталина).
- Сталин И.В. О недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников, Доклад и заключительное слово на Пленуме ЦК ВКП(б), 3 и 5 марта 1937 г.//Доклад т. Сталина на Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 г. -РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, д. 1084, лл. 35-55. (Подлинник с правками И.В. Сталина).
- Шпаков В.М. Два часа в Нью-Йорке//Прорыв. -2001, март. -Интернет-ресурс. режим доступа: www.proriv.ru%2Farticles.shtml%2Fshpakov%3Fnew_2001&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=c1e2a36baa35394c50bd53b1af1fb0a7&keyno=0 (24.02.2012)
- Lebrecht N. Stalin`s Final Victim//Evening Standard. -2003, February 26. -P. 45.
- Lubow A. The Loyalist//The New York Times. -2009, March 12. -Интернет-ресурс. режим доступа: www.nytimes.com/2009/03/15/magazine/15gergiev-t.html?_r=1 (28.02.2012)
- Meek J. Out of Stalin`s Shadow//The Guardian. -2003, Junuary 17. -P. 2-4.
- Sorensen S. An interview with Daniel Jaffe. June 26, 2000. -Интернет-ресурс. режим доступа: http://www.prokofiev.org/interviews/jaffe1b.html (24.02.2012)
- Taruskin R. Classical view: Stalin Lives On in the Concert Hall, but Why?//The New York Times. -1996, August 25. -Интернет-ресурс. режим доступа: www.nytimes.com/1996/08/25/arts/stalin-lives-on-in-the-concert-hall-but-why.html?scp=1&sq=Stalin%20Lives%20On%20in%20the%20Concert%20Hall,%20but%20Why?%20&st=cse (28.02.2012)