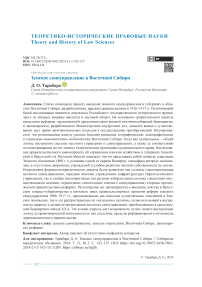Земское самоуправление в Восточной Сибири
Автор: Тарабара Д.О.
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки
Статья в выпуске: 2 т.21, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проекту введения земского самоуправления в губерниях и областях Восточной Сибири, разработанному царским правительством в 1916-1917 гг. Источниковой базой исследования являются документы Российского государственного исторического архива, часть из которых впервые вводится в научный оборот. На основании сравнительного анализа концепции реформы, предложенной представителями высшей восточносибирской бюрократии, и законопроекта, разработанного Министерством внутренних дел, делается вывод о существовании двух прямо противоположных подходов к осуществлению преобразований. Подчеркивается, что региональные власти уделяли большее внимание географическим, демографическим и социально-экономическим особенностям Восточной Сибири, тогда как центральные - общей логике построения системы местного управления и самоуправления, а также ее соответствию господствовавшим на тот момент теоретическим принципам муниципального права. Исследование правительственного законопроекта об управлении земским хозяйством в губерниях Енисейской и Иркутской и в Якутской области показало, что он представлял собой попытку адаптации Земского положения 1890 г. к условиям одной из окраин Империи, специфика которых заключалась в отсутствии дворянских учреждений и слабом развитии частной собственности на землю. Посредством формально-юридического анализа были выявлены как сильные (децентрализация местного самоуправления, передача земским учреждениям инфраструктуры Переселенческого управления), так и слабые (малопригодная для региона избирательная система с высокими имущественными цензами, ограничение компетенции земского самоуправления) стороны предложенной правительством реформы. Рассмотрение же законопроекта о введении земства в Иркутском генерал-губернаторстве в контексте иных правительственных проектов реформ земского самоуправления 1906-1917 гг., предполагавших как внесение существенных изменений в Земское положение, так и его распространение на «неземские» регионы, позволило выявить воззрения на природу и должную организацию местного самоуправления, преобладающие в среде высшей бюрократии начала ХХ в. Это в свою очередь дает возможность лучше понять внутреннюю логику ее правотворческой деятельности и, как следствие, пределы реформаторского потенциала дореволюционного правительства.
Земское самоуправление, земские учреждения, восточная сибирь, законопроект, реформа
Короткий адрес: https://sciup.org/143182565
IDR: 143182565 | УДК: 342.25(571) | DOI: 10.19073/2658-7602-2024-21-2-142-155
Текст научной статьи Земское самоуправление в Восточной Сибири
К февралю 1917 г. земские учреждения действовали всего в 43 из 93 губерний, областей и округов Российской империи (не считая Великого княжества Финляндского). Институт, продемонстрировавший немалые успехи в территориальном ядре страны, так и не был распространен на ее окраины. Не стала исключением и Сибирь, стремительно интегрировавшаяся в экономическое, правовое и административное пространство России в конце XIX – начале ХХ вв. Земский вопрос здесь был разрешен только 17 июня 1917 г. с принятием Временным правительством постановления «О введении земских учреждений в губернии Архангельской и в губерниях и областях Сибири».
Тем не менее земская проблематика в дореволюционной Сибири имеет достаточно обширную историографию. Наибольшее внимание со стороны исследователей закономерно получили сюжеты, связанные с общественным движением за введение земств в регионе и разработку представителями сибирской интеллигенции собственных проектов реформы [1–9]. Достаточно подробно рассмотрена проблематика сибирского земства в работе III и IV Государственных Дум Российской империи и, в частности, юридическая судьба депутатских законопроектов по распространению Земского Положения на губернии и области Сибири и Дальнего Востока [1; 3; 4; 7–9].
Гораздо меньшее внимание уделяется роли центральных органов исполнительной власти в данном вопросе: большая часть авторов ограничиваются лишь констатацией отрицательного отношения правительства к идее сибирского земства и шаблонным перечислением причин такового. Более ценными в этом отношении являются работы М. В. Шиловского, содержащие общий историко-правовой анализ законопроекта «Об управлении земским хозяйством в губерниях Алтайской, Тобольской и Томской», разработанного МВД в 1916 г., и сопроводительных материалов к нему [3; 8], а также М. И. Альт-шуллера и М. В. Угрюмовой, освещающие результаты работы совещания по земской реформе в Западной Сибири, организованного Главным управлением по делам местного хозяйства МВД в декабре 1913 г. [1; 7].
Можно констатировать отсутствие работ, предлагающих рассмотрение указанного вопроса через призму внутренней логики дореволюционного законодательства о местном самоуправлении и попыток центральной власти адаптировать его жесткие принципы к неоднородному со- циальному пространству огромной Империи. Не предпринималось попыток осуществить сравнительно-правовой анализ правительственных проектов введения земского самоуправления в Сибири с аналогичными проектами для других окраинных территорий.
В данном исследовании рассматривается земский вопрос в Сибири в контексте общей проблематики муниципально-правовой унификации Империи. В качестве иллюстрации избранного подхода было решено использовать проекты введения земского самоуправления в Восточной Сибири, разработанные в Иркутском генерал-губернаторстве и в Министерстве внутренних дел в 1916–1917 гг., поскольку данный сюжет является белым пятном отечественной историографии.
Подготовка проекта реформы
После того как 5 мая 1912 г. Государственный Совет отклонил разработанные и принятые Государственной Думой законопроекты «О распространении действия Положения о земских учреждениях на губернии Тобольскую, Томскую, Иркутскую, Енисейскую и Забайкальскую область» и «О распространении действия Положения о земских учреждениях на Амурскую и Приморскую области», инициатива по разработке земской реформы для губерний и областей Сибири перешла от парламентариев к Министерству внутренних дел. В отличие от Государственной Думы, предлагавшей единовременное введение органов земского самоуправления в большинстве сибирских и дальневосточных регионов, Главное управление по делам местного хозяйства МВД решило действовать поэтапно: в первую очередь земства предполагалось учредить в губерниях Западной Сибири, затем в Иркутском генерал-губернаторстве, на Дальнем Востоке и, наконец, в Степном крае1.
План действий министерства был вполне взвешенным и прагматичным, однако реализация первого же его этапа растянулась на неоправданно длительный срок. Так, статистико-экономические сведения, необходимые для проектирования реформы, были запрошены у Тобольского и Томского губернаторов только в конце мая 1913 г. – через год после отклонения Государственным Советом депутатских законопроектов о сибирском и дальневосточном земстве и через полгода после заявления премьер-министра В. Н. Коковцова о распространении земского самоуправления на губернии Западной Сибири, сделанного в IV Государственной Думе2. С 4 по 14 декабря 1913 г. проходила работа совещания о преобразовании земско-хозяйственного устройства губерний Западной Сибири, однако выработанный по его результатам проект Главных оснований преобразования земско-хозяйственного устройства в Тобольской и Томской губерниях был представлен Министром внутренних дел Н. А. Маклаковым на рассмотрение Совета Министров только 21 июня 1914 г.3 Важно отметить, что в течение всего указанного периода работа над земской реформой в губерниях и областях Иркутского генерал-губернаторства не велась министерством даже на уровне сбора статистико-экономических данных.
С началом Первой мировой войны земская реформа в Сибири была вытеснена на периферию внимания правительства более насущными проблемами. Она вернулась на повестку дня только 8 августа 1915 г., когда группа из 72 депутатов внесла на рассмотрение Государственной Думы законодательное предложение о введении в Сибирских губерниях и областях земского самоуправления, точно воспроизводящее содержание законопроектов, отклоненных Государственным Советом в мае 1912 г.
Позиция Министерства внутренних дел по данному вопросу была изложена в записке А. Н. Хвостова на имя Председателя Совета Министров Б. В. Штюрме-ра от 13 февраля 1916 г. В ней министр признавал вполне приемлемыми разработанные своим предшественником Главные основания реформы в Западной Сибири, за исключением наиболее одиозных предложений: упразднения губернского земства, передачи значительной части их компетенции органам государственной власти, назначения председателей земских управ администрацией и т. д. В результате «ревизии» проекта Н. А. Маклакова были сформулированы следующие основные положения проектируемой реформы: 1) введение в сибирских губерниях действующего Земского положения 1890 г.; 2) бессословность земских учреждений; 3) установление двух избирательных курий – частновладельческой и сельской; 4) подвижное расписание земских гласных; 5) сохранение земельного и оценочного избирательных цензов; 6) нераспространение земской реформы на казачьи земли Томской губернии. Далее предлагалось объявить Государственной Думе, что МВД принимает на себя разработку законопроекта для Тобольской и Томской губерний на основании вышеперечисленных принципов с расчетом внести таковой не позднее дня открытия предстоящей осенней сессии. В отношении остальных губерний и областей Сибири предлагалось занять более осторожную позицию: принять на себя разработку реформы, но без указания срока подготовки законопроекта и не предрешая его содержания4.
Предложение А. Н. Хвостова было поддержано Советом Министров 19 февраля 1916 г. и представлено при рассмотрении законодательного предположения на пленарном заседании Государственной
Думы 3 марта 1916 г. помощником начальника Главного управления МВД по делам местного хозяйства А. А. Ефтифеевым5. Заявление министерства было воспринято парламентариями с нескрываемым скепсисом. Большинство депутатов проголосовало за передачу законодательного предположения в комиссию по местному самоуправлению для самостоятельной разработки законопроекта о сибирском земстве. Возможно, именно вынужденная конкуренция с Государственной Думой в области законотворчества заставила Правительство не только более оперативно работать над реформой, но и впервые обратить внимание на Восточную Сибирь.
24 апреля 1916 г. Б. В. Штюрмер, сменивший А. Н. Хвостова на посту министра внутренних дел, направил Иркутскому Генерал-губернатору А. И. Пильцу письмо за № 2558, в котором просил Начальника края предоставить необходимые для разработки земской реформы данные по прилагаемым формам и перечню, по возможности, не позднее 15 сентября 1916 г.6 Последний направил соответствующие запросы подчиненным ему губернаторам. Соображения по предстоящей реформе были представлены ими к сентябрю– октябрю 1916 г. Против введения земского самоуправления в вверенном ему регионе выступил только глава Якутской области Р. Э. Витте7; остальные, напротив, сочли ее необходимой.
Иркутское и Петроградское совещания
Для выработки окончательной позиции региональной власти относительно предстоящей реформы 5 ноября 1916 г. в Иркутске состоялось Совещание по вопросу о преобразовании земско-хозяйственного устройства в Енисейской и Иркутской губерниях и в Забайкальской области. Его состав не отличался представительностью (из двадцати двух его участников только четверых можно условно отнести к представителям общественности). Тем интереснее, что выработанные им основные положения по букве и духу оказались даже более демократическими, чем нормы депутатского законопроекта.
Совещание единогласно признало местное население подготовленным для работы в органах земского самоуправления и высказалось за распространение Земского положения на каждый из трех регионов. Из-под действия реформы, по аналогии с северными территориями Тобольской и Томской губерний, выводился только Туруханский край Енисейской губернии. В столь же малонаселенном и слабо освоенном Киренском уезде Иркутской губернии, напротив, было решено учредить уездное земство, на чем настаивал лично Генерал-губернатор. В отличие от европейской части России и Западной Сибири, действие реформы предлагалось распространить на земли казачьего войска, а также на золотопромышленные районы. Города Иркутск, Красноярск и Чита выделялись в самостоятельные земские единицы8.
Совещание признало возможным привлечь местных инородцев (в первую очередь – бурят) к участию в земстве на общих для сельского населения основаниях. Исключение составляли только бродячие инородцы Туруханского края, карагазы Нижнеудинского уезда и бродячие инородцы по реке Витиму Забайкальской области9.
Неожиданно позитивный отклик нашло предложение Иркутского губернатора
Siberian Law Review. 2024. Volume 21, no. 2 дарственной оброчной и поземельной податями в соответствии с действующим законодательством12.
10 ноября 1916 г. основные положения, выработанные Иркутским совещанием, его протокол, а также заключения четырех губернаторов по вопросу земской реформы были направлены в Министерство внутренних дел. Несмотря на поддержку Иркутским Генерал-губернатором всех вышеперечисленных инициатив, Главное управление МВД по делам местного хозяйства отнеслось к ним довольно холодно. Предложения по введению земских учреждений в Киренском уезде, созданию участковых земств, установлению налогового избирательного ценза и понижению земельного и оценочного цензов были признаны неприемлемыми13. Отклонив большую часть региональных инициатив, сотрудники МВД были вынуждены проектировать реформу собственными силами.
25 января 1917 г. в Петрограде состоялось новое совещание по вопросу земской реформы в Восточной Сибири с участием иркутского Генерал-губернатора, правда на этот раз представители местной администрации оказались в абсолютном меньшинстве: тон задавала столичная бюрократия в лице высших чинов Главного управления МВД по делам местного хозяйства. Совещание признало возможным распространить на Енисейскую и Иркутскую губернии Земское положение 1890 г. с необходимыми по местным условиям изменениями и дополнениями. Кирен-ский уезд и Бодайбинский округ выводились из-под действия земской реформы наравне с Туруханским краем. Введение земских учреждений в Забайкальской области было решено осуществить одновременно с преобразованием ее административно-территориального деления (в чем
А. Н. Югана об организации участковых (районных) земств взамен уездных с присвоением им всех прав и обязанностей последних. Для этого территорию Иркутской губернии предлагалось разделить на 19 участков с населением от 5 376 до 54 080 человек и площадью, приблизительно соответствующей уездам европейской части России. Несмотря на обоснованные сомнения отдельных участников Совещания, включая Генерал-губернатора, относительно финансовых возможностей и кадровой обеспеченности проектируемых учреждений, большинство поддержало концепцию А. Н. Югана, а также высказалось за рассмотрение вопроса о возможности введения участковых земств в Енисейской губернии и Забайкальской области10.
Большое внимание уделялось вопросам избирательного права. Совещание выступило за установление во всех местностях земельного ценза на уровне 80 десятин, а оценочного – 5 000 рублей (депутатский проект предусматривал 150 десятин и 7 500 рублей соответственно). Наряду с этим предлагалось предоставить избирательные права крупным и средним плательщикам земского сбора с промысловых свидетельств, а также арендаторам казенных земель размером не менее 80 десятин, оборудовавшим на них новое хозяйство и уплачивающим земские сборы. По аналогии с Тобольской и Томской губерниями, признавалось допустимым сложение различных имущественных цензов11.
Наконец, по вопросу о местных финансах Совещание высказалось за использование для земской кассы, по возможности, всех допускаемых законом объектов обложения, а также признало подлежащим таковому все объекты обложения госу- прослеживается параллель с проведением аналогичных реформ в Западной Сибири), что позволяло временно отложить проблему урегулирования участия казачества и этнических меньшинств в работе местного самоуправления.
Таким образом, результатом работы Петроградского совещания стало формальное утверждение министерского видения реформы. Несмотря на личное участие в нем А. И. Пильца, труды высшей бюрократии Восточной Сибири по земскому вопросу оказались, в сущности, невостребованными. Оставалось только разработать законопроект на принятых совещанием началах и внести его в Государственную Думу к предстоящей весенней сессии. Кроме того, в «непродолжительном времени» планировалось начать подготовку к проведению земской реформы в Приамурском генерал-губернаторстве и в степных областях14.
Министерский проект земской реформы в Восточной Сибири
Результатом работы ведомства стал проект закона «Об управлении земским хозяйством в губерниях Енисейской и Иркутской и в Якутской области», сохранившийся в фондах Главного Управления МВД по делам местного хозяйства. Вероятнее всего, его разработка была завершена в феврале 1917 г. Видимо, именно ему было суждено стать последним дореволюционным правительственным проектом введения земских учреждений на окраинах Империи.
Юридическая техника исследуемого законопроекта, в частности, скрупулезно проработанные заключительные и переходные положения, оставляет впечатление практически завершенной редакции правового акта, по большей части готовой к внесению на рассмотрение Совета Министров, а затем и Государственной Думы. Незаконченными остались только единич- ные статьи Временных правил о земских повинностях в Якутской области, Кирен-ском уезде Иркутской губернии и Турухан-ском крае Енисейской губернии, не имеющие прямого отношения к предмету настоящего исследования. В связи с этим представляется вполне допустимым рассматривать проект закона «Об управлении земским хозяйством в губерниях Енисейской и Иркутской и в Якутской области» как официальную позицию Министерства внутренних дел относительно земской реформы в губерниях Восточной Сибири.
В основу министерской альтернативы депутатскому законопроекту и предложениям Иркутского Совещания были положены не принципиально новые идеи и концепции, а соображения и наработки, ранее использованные при проектировании земской реформы для Тобольской, Томской и Алтайской губерний. Сделанный МВД выбор в пользу движения по намеченной колее объясняется, вероятно, как общей логикой работы бюрократических учреждений, так и ограниченностью располагаемого запаса времени.
В результате восточносибирские земства по своему правовому статусу оказывались практически идентичными западносибирским. Все различия между ними ограничивались исключением из состава земских собраний представителей Крестьянского поземельного банка и Кабинета Его Императорского Величества, введением вместо них представителей съездов золотопромышленников, а также передачей отдельных полномочий Министра Внутренних Дел в области контроля за деятельностью земских учреждений Иркутскому Генерал-губернатору. Гораздо более существенной была разница между положениями исследуемого законопроекта и нормами Положения о губернских и уездных земских учреждениях 1890 г., а потому представляется уместным остановиться на этом вопросе более подробно.
Siberian Law Review. 2024. Volume 21, no. 2 ложения 1890 г.: проектировалось создание только губернских и уездных земств. В то же время рассматриваемый проект в рамках собственного предмета регулирования все таки предлагал несколько новаций в области децентрализации земского самоуправления.
Во-первых, распределение предметов ведения и полномочий между уездными и губернским земствами осуществлялось на новых началах. Практически все вопросы, относящиеся в Европейской России к компетенции губернских земских собраний, в Восточной Сибири изначально закреплялось за уездными. Большая их часть могла передаваться обратно на губернский уровень, но только с согласия не менее чем 2/3 уездных земских собраний губернии. В связи с существенным расширением своих полномочий, уездные земские собрания наделялись правом издавать обязательные постановления почти по всем предметам, входящим в компетенцию местного самоуправления (ст. 108 Земского Положения). С финансовой точки зрения жизнеспособность предложенных мер должна была обеспечиваться законодательно установленной предельностью губернского обложения: по общему правилу, оно не могло составлять более 20% от общей суммы губернского и уездных земских сборов с недвижимых имуществ18.
Во-вторых, проект предусматривал введение института земских уполномоченных, призванных исполнять поручения земских управ в пределах определенных участков. По общему правилу, их количество должно было быть не менее трех и не более числа участков крестьянских начальников в уезде19. Впрочем, данная мера, в отличие от предыдущей, не была
Действие реформы не распространялось на малонаселенные северные территории Восточной Сибири: Туруханский край Енисейской губернии и Киренский уезд Иркутской губернии. Бодайбинский округ, равно как и иные золотопромышленные округа, в проекте не упоминается. Города Красноярск и Иркутск выделялись в самостоятельные земские единицы15.
Круг полномочий восточносибирского земства несколько изменялся относительно общих норм Земского положения 1890 г. С одной стороны, компетенция земских учреждений дополнялась устройством и содержанием средств сообщения на водных путях, содействием развитию местного рыболовства и пушного промысла, а также принятием мер по борьбе с хищными животными. Сверх этого губернские земства получили весьма важное в сибирских условиях право строить и эксплуатировать своим распоряжением и за свой счет в пределах губернии железные дороги, учреждать для этой цели общества или принимать в таковых участие.
С другой стороны, из предметов ведения восточносибирских земств изымались заведывание взаимным земским страхованием имуществ и оценка недвижимых имуществ: оба полномочия было решено передать в компетенцию соответствующих органов государственной власти16. Интересно отметить, что поводом для этого стало не столько внимание к восточносибирской специфике, сколько необходимость пересмотра общеимперского законодательства и нарастающее недовольство Правительства деятельностью уже существующих земств в данных сферах17.
В организационном аспекте реформа следовала общим нормам Земского По- новаторской, а лишь закрепляла уже существующие земские практики. Так, в европейских губерниях имели место как случаи избрания в помощь земским управам особых лиц с последующим «расселением их по территории уезда», так и разделения уездов между такими «районными членами управы» [10, с. 948].
Избирательная система в Восточной Сибири проектировалась на бессословных началах, в каждом уезде предусматривалось формирование одного избирательного собрания и одного избирательного съезда. В то же время земские выборы сохраняли куриальный характер: гласные должны были избираться от избирательного собрания (курия частных владельцев) и волостных избирательных сходов (курия сельских обществ).
В отличие от европейской части России, количество гласных от каждой из курий не было строго зафиксировано в специальном расписании. Их распределение должно было осуществляться губернским управлением на каждое трехлетие соразмерно суммам сборов с недвижимых имуществ, при- надлежащих сельским обществам, с одной стороны, и с прочих недвижимых иму-ществ, расположенных в пределах уезда, с другой20. В целом же количество гласных в уездных земских собраниях в Енисейской губернии колебалось в пределах от 15 (Енисейский и Красноярский) до 30 (Канский) человек, в Иркутской – от 15 (Вер-холенский) до 24 (Балаганский) человек. В губернском земском собрании Енисейской губернии проектировалось 30 гласных, Иркутской – 20 гласных21.
Следуя общим правилам определения размеров имущественных избирательных цензов, Министерство установило земельный (десятинный) ценз для всех уездов Енисейской и Иркутской губерний в размере 300 десятин, а оценочный – в размере 15 000 рублей. О степени адекватности проектируемых норм региону, в котором практически отсутствовало частное землевладение, можно судить по оценкам числа потенциальных избирателей различных категорий, представленным Енисейским и Иркутским губернаторами. Приведенные в таблице данные однозначно
Таблица
Количество владельцев различных видов имущественного ценза на земских выборах в губерниях Западной и Восточной Сибири
|
Вид имущественного ценза |
Енисейская |
Иркутская |
Алтайская |
Тобольская |
Томская |
|
Полный земельный ценз |
23 |
7 |
0 |
135 |
23 |
|
Не менее чем 1/10 полного земельного ценза |
22 |
20 |
0 |
557 |
52 |
|
Полный оценочный ценз, в уездах |
8 |
30 |
13 |
27 |
14 |
|
Не менее чем 1/10 оценочного ценза, в уездах |
34 |
98 |
228 |
303 |
95 |
|
Полный оценочный ценза, в городах |
132 |
19 |
248 |
348 |
61 |
|
Не менее чем 1/10 оценочного ценза, в городах |
1 356 |
93 |
1 485 |
2 992 |
453 |
Примечание. Из таблицы исключены данные о количестве избирателей в городах, проектируемых к выделению в самостоятельные земские единицы: Барнауле, Иркутске, Красноярске, Ново-Николаевске и Томске ( РГИА . Ф. 1288. Оп. 4. 3-е делопроизводство. 1905 г. Д. 27-7. 180–188, 505–516 ; Ф. 1278. Оп. 7. Д. 1218. Л. 112–113).
свидетельствуют о совершенно ничтожном их количестве даже по меркам других регионов Сибири.
В целях расширения круга избирателей право участия в избирательном собрании получали священно- и церковнослужители христианских исповеданий, арендаторы казенных земель в порядке правил о переселении и арендаторы крупных скотоводческих участков на срок не менее 12 лет. Размер земельного участка в последних двух случаях должен был составлять не менее 300 десятин, а продолжительность отношений аренды на момент выборов – не менее одного года. Заметно расширялось применение института представительства в избирательных правоотношениях. Допускалось сложение неполных разнородных цензов. Наконец, местные православные священнослужители получали право избираться кандидатами в гласные от сельских обществ22.
Проект предусматривал значительное расширение представительства различных государственных ведомств в земских собраниях. Так, помимо лиц, перечисленных в ст. ст. 56 и 57 Земского положения, в их состав должны были входить представители финансового, переселенческого, земледельческого и образовательного ведомств, а в состав уездных собраний также и представители лесного ведомства (если в уезде имеются казенные земли) и съездов золотопромышленников (по одному от каждого)23. Сложно предположить, что проектируемые сибирские земства не были бы заинтересованы в конструктивном сотрудничестве с каждым из вышеперечисленных ведомств, однако проектируемую форму взаимодействия между ними едва ли можно считать удачной как с теоретической, так и с практической точки зрения.
Пределы государственного контроля за деятельностью земских учреждений оставались неизменными, изменялись лишь субъекты его осуществления. Так, часть полномочий Министра внутренних дел в области надзора за деятельностью земских учреждений передавалась Иркутскому Генерал-губернатору24. Введение в проект данных норм свидетельствует о неготовности МВД пойти на полную административную унификацию региона с внутренними губерниями и дает основание говорить о сохранении по крайней мере у части высшей бюрократии взгляда на Восточную Сибирь как на одну из окраин Империи.
Проект предлагал и более конструктивные формы взаимодействия государственных и земских учреждений. Речь идет про постепенную передачу органам местного самоуправления земско-хозяйственной части переселенческого управления. Интересно отметить, что соответствующие «сооружения и установления, принадлежащие к предметам ведомства земских учреждений» могли передаваться последним как в добровольном, так и в принудительном порядке. Независимо от этого, земства должны были бы выделять кредиты на их содержание в размере не меньше правительственных ассигнований на тот же предмет в предшествующий передаче год. Государство в свою очередь брало на себя обязательство субсидировать земствам половину требуемых ассигнований на эти нужды25. Данная мера, безусловно, выступила бы дополнительным подспорьем для развития муниципального хозяйства, впрочем, переоценивать ее значение не следует: из-за меньшего притока переселенцев в Восточную Сибирь деятельность переселенческого управления была поставлена здесь слабее, чем в Западной.
Внутренние ограничения реформы
Таким было правительственное видение земской реформы в Восточной Сибири. Проект оказался именно тем, что и задумывалось его авторами – адаптацией общего закона к местным условиям. Одни нововведения, действительно, отвечали восточносибирской специфике и в случае обретения юридической силы могли бы позитивно сказаться на развитии земского хозяйства, другие, напротив, скорее отражали представления МВД о надлежащей организации земского самоуправления в масштабах страны. Наиболее слабым местом проектируемой реформы, как ни парадоксально, оказалась наиболее важная ее часть, связанная с нормами земского избирательного права. Именно в этом вопросе наблюдались наиболее принципиальные расхождения между проектами МВД, Государственной Думы и Иркутского Совещания.
Решение Правительства о сохранении очевидно малопригодной для региона избирательной системы (или по крайней мере правовая сторона данного решения) во многом предопределялось господствующими в его среде теоретическими воззрениями на природу и, как следствие, должную организацию местного самоуправления. Несмотря на то что наиболее важные из этих доктринальных установок уходили своими корнями в земскую реформу 1864 г., анализ сопроводительных материалов к ряду законопроектов в области местного самоуправления, а также отзывов на соответствующие законодательные предположения депутатов Государственной Думы показал, что они не потеряли актуальности для представителей высшей бюрократии и по прошествии пятидесяти лет с момента ее проведения.
Право непосредственного участия в земских выборах по-прежнему рассматривалось в качестве производного от уплаты лицом земских сборов, земле- владельцы представлялись наиболее заинтересованной в земском хозяйстве группой населения, а размер собственности оставался показателем степени «культурности» лица и его способности к эффективной работе в составе органов местного самоуправления. Чем сильнее были расхождения между теорией и практикой, чем меньше региональная специфика (в первую очередь, характер землевладения и землепользования) соответствовала вышеперечисленным постулатам, тем более сложный и искусственно сконструированный вид приобретали правовая и организационная основы земских учреждений.
Тем не менее определенная эволюция в представлениях высшей бюрократии относительно принципов организации местного самоуправления все-таки происходила. Так, фактор сословности, значение которого в историографии представляется несколько преувеличенным, к началу ХХ в. практически утратил свое значение – отсутствие в каком-либо регионе дворянского землевладения и дворянской организации само по себе перестало рассматриваться правительством как препятствие к распространению на него земской реформы. Ни один из законопроектов о введении земских учреждений на «окраинах» Империи, разработанных после Первой русской революции Министерством внутренних дел, Военным министерством или Кавказским наместником, не предусматривал специального представительства в земстве от дворянского сословия.
Это же касается и вопроса о снижении избирательных цензов: Правительство было готово пойти на данную меру при условии, что она не противоречит вышеперечисленным теоретическим установкам (поэтому, например, исследуемый законопроект предусматривал специальную квоту для владельцев недвижимых имуществ вне городских поселений и отказывал в избирательном праве переселенцам, освобожденным от уплаты земских сборов).
Именно в таком ключе были составлены главные основания преобразования выборов земских гласных, одобренные Советом Министров еще 28 апреля 1909 г. Одним из основных положений указанного проекта было двукратное понижение земельного и оценочного ценза на земских выборах26. Почему же МВД отказалось пойти на точно такую же меру для восточносибирских губерний, как это предлагалось в законопроекте Государственной Думы?
Ответ на этот вопрос, по-видимому, кроется во внутренней логике построения дореволюционной правовой системы. После Первой русской революции земельный и оценочный избирательные цензы на земских выборах во всех губерниях оказались приравненными к соответствующим цензам на выборах в Государственную Думу. Точечное понижение избирательных цензов на земских выборах специальными законами для отдельных местностей неизбежно означало отступление от данного соотношения, а потому рассматривалось Министерством как несправедливая по отношению ко всем остальным (или по крайней мере к соседним) регионам мера.
Указанная позиция органично укладывалась в логику не только общих принципов права, но и унификации административного и правового пространства Российской империи, проводимой центральной властью в конце XIX – начале ХХ вв. На практике МВД довольно последовательно придерживалось ее, не делая исключений ни для западных губерний (положение о двукратном снижении земельного и оценочного ценза было внесено Государственной Думой)27, ни для губерний Царства Польского (даже притом, что земская реформа рассматривалась как одна из уступок польскому населению, призванная обеспечить его лояльность в годы Первой Мировой войны)28.
Единственным регионом, в котором Министерство все-таки посчитало возможным пойти на снижение десятинного ценза, стала Западная Сибирь, причем данная мера была предложена еще до начала Первой Мировой войны. Проектируемая льгота распространялась только на три уезда Тобольской губернии (Тюкалинский, Тюменский и Ялуторовский) и обосновывалась существенным изменением цен на землю после постройки Тюмень-Омской железной дороги29. Однако здесь «вступал в силу» еще один негласный принцип организации земской избирательной системы – о соответствии размеров земельного и имущественного цензов, в связи с чем оценочный ценз в этих уездах оставался прежним (15 000 рублям).
Именная такая логика наблюдалась в разработанном в 1912–1913 гг. проекте поправок в Именной Высочайший Указ от 14 марта 1911 г. «О распространении действия Положения о земских учреждениях на Витебскую, Волынскую, Киевскую, Минскую, Могилевскую и Подольскую губернии». Министерство внутренних дел не возражало против одобренного Думой двукратного снижения десятинных цензов в связи с повышением цен на землю в «новоземских губерниях», однако выступило против одновременного понижения оценочного ценза как раз ввиду нарушения вышеупомянутого принципа. Более того, в объяснительной записке к проекту прилагались расчеты, основанные на различных оценках стоимости земли, призванные продемонстрировать соответствие пониженного земельного и общего оценочного цензов30.
Сибирское юридическое обозрение.
Заключение
Таким образом, рассмотренные проекты за авторством восточносибирской и столичной бюрократии отражают два прямо противоположных подхода к осуществлению столь необходимой для края земской реформы. Интенцией Иркутского совещания было проектирование жизнеспособных институтов, что обусловило большее внимание к географическим, демографическим и социально-экономическим особенностям Восточной Сибири в ущерб логике построения системы местного управления и самоуправления, а отчасти и общим принципам права. Министерский законопроект, напротив, сложно упрекнуть в низкой юридической технике, внутренней противоречивости или теоретической несостоятельности, однако за приматом формы скрывалась бедность содержания: сотрудники ведомства были вынуждены творить право в крайне узком пространстве возможностей, границы которого они и их непосредственные предшественники возводили на протяжении нескольких десятилетий. После победы Февральской революции Временное Правительство не стало распутывать этот гордиев узел. Оно имело собственные представления о соотношении должного с сущим. В июне 1917 г. земская реформа все-таки была распространена на Восточную Сибирь, однако за прежним наименованием стояли совершенно иные учреждения, имевшие мало общего со своими дореволюционными предшественниками.
Список литературы Земское самоуправление в Восточной Сибири
- Альтшуллер М. И. Земство в Сибири. Томск: скл. изд.: кн. маг. П. И. Макушина, 1916. 411 с.
- Иркутск и иркутяне в Первой мировой войне: исследования и материалы: коллектив. моногр. / под ред. Ю. А. Петрушина. Иркутск: Оттиск, 2014. 448 с.
- История общественного самоуправления в Сибири второй половины XIX - начала ХХ века / отв. ред. М. В. Шиловский. Новосибирск: Сова, 2006. 351 с.
- Сборник о земстве в Сибири: материалы по разработке вопроса на местах и в законодательных учреждениях. СПб., 1912. 160 с.
- Тресвятский Л. А. Общественность и местное самоуправление Восточной Сибири в начале ХХ века: моногр. Томск: Изд-во Томск. политехн. ун-та, 2010. 184 с. EDN: QITPQP
- Тригуб Г. Я. Местное самоуправление на Дальнем Востоке России в конце XIX - начале ХХ в. // Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. 2006. № 5 (129). С. 150-155. EDN: HZMSIJ
- Угрюмова М. В. Земский вопрос и земское самоуправление в Тобольской губернии (вторая половина XIX в. - 1919 г.): моногр. Нижневартовск: Изд-во Нижневартовск. гос. гуманитар. ун-та, 2007. 202 с. EDN: QPGQBF
- Шиловский М. В. Проект МВД о введении земского самоуправления в Сибири (декабрь 1916 г.) // Проблемы истории местного управления в Сибири XVI - XXI вв.: материалы 5-й всерос. науч. конф.: в 2 ч. Новосибирск: ГАНО, 2003. Ч. 1. С. 86-89.
- Юрцовский Н. С. Земство в Сибири: Земство в Сибири: с прил. закона 17 июня 1917 г. и выдержек из закона 21 мая 1917 г. Тобольск: Губ. тип., 1917. 50 с.
- Веселовский Б. Б. Земство в Западной Сибири // Земское дело. 1916. № 22. С. 943-949.