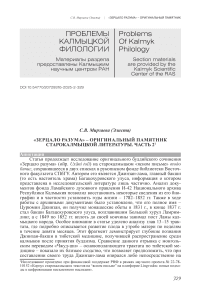«Зерцало разума» — оригинальный памятник старокалмыцкой литературы. Часть 2
Автор: Мирзаева С.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья продолжает исследование оригинального буддийского сочинения «Зерцало разума» (ойр. Uxāni toli) на старокалмыцком «ясном письме» тодо бичиг, сохранившееся в двух списках в рукописном фонде библиотеки Восточного факультета СПбГУ. Автором его является Джинзан лама, главный бакши (то есть настоятель храма) Багацохуровского улуса, информация о котором представлена в исследовательской литературе лишь частично. Анализ документов фонда Ламайского духовного правления И-42 Национального архива Республики Калмыкия позволил восстановить некоторые сведения из его биографии и в частности установить годы жизни - 1782-1852 гг. Также в ходе работы с архивными документами было установлено, что его полное имя - Цурюмин Джинзан, он получил монашеские обеты в 1831 г., в конце 1837 г. стал бакши Багацохуровского улуса, возглавившим Большой хурул Ламримлинг, а с 1849 по 1852 гг. вплоть до своей кончины занимал пост Ламы калмыцкого народа. Особое внимание в статье уделено анализу глав 13-15 трактата, где подробно описывается развитие плода в утробе матери по неделям в течение девяти месяцев. Этот фрагмент демонстрирует глубокие познания Джинзан бакши в тибетской медицине, получившей распространение среди калмыков после принятия буддизма. Сравнение данного отрывка с монгольским переводом «Чжуд ши» - основополагающего трактата по тибетской медицине - показало их близкое сходство, что позволяет предположить, что при составлении своего труда Джинзан лама опирался либо непосредственно на тибетский оригинал «Чжуд ши», либо на его ойратский перевод, входящий в перечень переводов Зая пандиты Намкай Джамцо. Таким образом, исследование не только вносит вклад в реконструкцию биографии Джинзан ламы, но и подтверждает его глубокие знания не только в области буддийской философии, но и медицины, что расширяет наши представления о буддийской учености калмыцких лам XIX в.
«зерцало разума», старокалмыцкая литература, «ясное письмо» тодо бичиг, джинзан лама, багацохуровский улус, ламайское духовное правление, тибетская медицина
Короткий адрес: https://sciup.org/149148624
IDR: 149148624 | DOI: 10.54770/20729316-2025-2-329
Текст научной статьи «Зерцало разума» — оригинальный памятник старокалмыцкой литературы. Часть 2
“The Mirror of Mind”; Old Kalmyk literature; “Clear Script” todo bichig; Jinzang-lama; Baga Tsokhor ulus; Lamaist Clergy Administration; Tibetan medicine.
Данная статья продолжает исследование сочинения «Зерцало разума» (ойр. Uxāni toli ) – одного из немногих сохранившихся памятников оригинальной буддийской литературы на старокалмыцком «ясном письме» тодо бичиг . Сочинение было создано в 1839–1840 гг. ламой Джинзаном (полное имя – Цурюмин Джинзан), бакшой (настоятелем храма) Багацохуровского улуса. В отличие от большинства буддийских текстов, бытовавших среди калмыков, это не перевод с тибетского языка, а самостоятельное произведение, отражающее особенности местной религиозной традиции.
Как уже отмечалось в первой части исследования, полная рукопись сочинения хранится в фонде библиотеки Восточного факультета СПбГУ под шифром Calm C 12 и состоит из двух тетрадей [Catalogue of the Mongolian manuscripts... 1999, 301]. Впервые на этот памятник обратил внимание исследователь А.В. Бадмаев [Бадмаев 1997, 16–22], опубликовавший в 1997 г. статью в литературно-художественном журнале «Теегин герл», а также подготовивший переложение глав №№ 1–55 на современный калмыцкий язык [Ухани толь... 1997, 23–46]. Значимость данного сочинения подчеркивал и В.Л. Успенский, отмечавший необходимость его дальнейшего изучения [Uspensky 1997, 182].
Во второй части исследования мы обращаемся к биографии автора сочинения «Зерцало разума» – Джинзан-ламы, реконструированной на основе документов фонда И-42 Ламайского духовного правления Национального архива Республики Калмыкия (далее – НА РК). Ламайское духовное правление, существовавшее в период с 1836 по 1848 гг., выполняло функции административного органа, регулировавшего деятельность ламаистской церкви в Калмыкии. Фонд включает 53 единицы хранения, среди которых – отчеты, ведомости о численности хурулов по улусам, списки духовенства, данные о мирских подношениях и другие документы, отражающие религиозную жизнь калмыков в первой половине XIX в.
В работах, посвященных калмыцкому буддийскому духовенству, фигура Джинзан-ламы упоминается фрагментарно – преимущественно как бакша (настоятель) Багацохуровского улуса [Батыров 2017, 85; Орлова 2017]. Более подробные сведения приводит Э.П. Бакаева, указывая, что Джинзан-лама был Ламой калмыцкого народа после Д.Г. Намкаева:
Ко времени ликвидации Ламайского Духовного правления его глава согласно «Положению об управлении калмыцким народом» 1847 г. Д.Г. Намкаев умер, и вместо него обязанности исполнял, согласно данным Г.Ш. Дорджиевой, обнаруженным в архивах, Цурюм Дензен. Однако другие материалы свидетельствуют о том, что в эти годы Ламой калмыцкого народа являлся лама Джинцан (один из вариантов написания имени – С. М. ), бывший до этого багши хурулов Багацохуровского улуса» [Бакаева 2005, 128].
Имя Джинзан-бакши встречается в фонде И-42 в делах №№ 5, 7, 12, 16, 19–21, 27, 28, 37, датируемых 1837–1849 гг., в разных вариантах написания – Джинзан, Джинзанг, Джинчан, Джинзен, Джинчынг, полное имя – Цурюмин Джинзан. Анализ этих документов позволяет восстановить следующие этапы его биографии: 1) он родился в 1782 г. [НА РК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 16. Л. 186 об. – 187 об.]; 2) в 1831 г. принял монашеские обеты от Орчи-ламы, основателя первого стационарного хурула в урочище Цаган Аман Багацохуровского улуса (1798 г.) [Борисенко 1994, 3]; 3) в конце 1837 г. стал бакши Багацохуровского улуса (см. доклад от 16 декабря 1837 г. о названии себя Багацохуровским Ламою – бакши Джинзаном [НА РК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 5. Л. 3; НА РК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 12. Л. 5]); 4) в 1849 г. занял пост Ламы калмыцкого народа; 5) скончался в 1852 г.
Согласно «Ведомости гелюнам, гецулям и манджикам Багацохуровского улуса» (20 декабря 1848 г.), Джинзан-бакша входил в штат Первого Большого хурула [НА РК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 37. Л. 12]. Как пишет Э.П. Бакаева, до 1834 г. в Багацохуровском улусе «был только один хурул – Ламримлинг, основанный еще до прихода калмыков в волжские степи. Согласно традиции, название ху-рулу дал Далай-лама» [Бакаева 1994, 27]. Штат насчитывал 275 человек. После 1830 г. Ламримлинг разделился на 5 хурулов: Большой (Ики) хурул Ламрим-линг, Большой Манлан (посвященный будде врачевания Манла), Большой Докшадын (посвященный докшитским богослужениям), Малый Докшадын (или Данжагин), Онкоров малый [Бакаева 1994, 27–29]. Можно предположить, что «Первым Большим хурулом» из перечисленных является Большой хурул Ламримлинг, таким образом, Джинзан-бакши являлся его настоятелем.
В деле № 20 фонда И-42 содержится реестр имен всех духовных лиц в количестве 275 человек, которые подведомственны хурулам Багацохуровского улуса с указанием их монашеского ранга, возраста, года, в котором были приняты обеты, от какого учителя, и уровня духовной дисциплины (ойр. šangγai medel baγa cōxor nutuγai songγuuriyin diqtü oroqsan: γurban yeke xurul: tabun baγa xurulmuudiyin γarulγa bolun: tüüni medel-dü bayidaq: xoyor zuun dalan tabun: xuvaragiyin tō bolun nere: kezē aliki ǰildü ken gedeq colotai blamāsa: sanvar züüqsen: kedüü nasutai: erdem šaqsābad yambar yuun doro mün ). Первым в реестре указан улусный бакши Цурюмин Джинзан (ойр. nutugiyin baqši curimiyin ǰinzang ), получивший монашеские обеты от Орчи-ламы в 1831 г. (ойр. γučin nigedüqči ҟlu ǰildü orči blamasu gelong boluqsan ) и обладавший совершенными знаниями в обучении и чистой нравственной дисциплиной (ойр. erdem surγuuli sayin, kücüs erdemtei, šaqsabād maši ariun ). Кроме того, указано, что в 1838 г. ему было 56 лет [НА РК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 16. Л. 186 об. – 187 об.], на основании чего можно утверждать, что он родился в 1782 г. В том же документе приводится небольшая справка о местных хурулах, которая содержит некоторые интересные исторические сведения:
Аюка-хан поставил ламой ученика Далай-ламы Аранджи-бу-цорджи, построил Большой хурул, Манла-[хурул] и [Докша-дын]-хурул, предоставил шабинеров и дал названию «Ламримлинг» хурулу. [Впоследствии] он даровал хурул внуку Дондук-Омбо, и с того времени он существует непрерывно около ста лет [НА РК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 16. Л. 186 об.].
(ойр. xān ayuuki dalai blamayin šebi aranǰiba corǰitanār blama bariǰi yeke xurul: manla: doqšid ene γurban xurul bosxōd: šebener čigi ögüqsen: xuruliyin nereni lamiringling geǰi nere xadaqsan: tere xurulān ačidān don-doq onbadu xayirin boluqsan: tüünēse nāru: ödögē kürtele tasurul ügei yabād: zuun ǰil ergeme ǰil boluqsani ene ).
Относительно назначения Джинзан-бакши на пост Ламы калмыцкого народа, в материалах фонда было обнаружено письмо главного попечителя калмыцкого народа М.И. Тагайчинова от 26 апреля 1849 г. на имя Ламы калмыцкого народа, которое было адресовано, очевидно, Джинзан-бакши. В нем написано: «...в донесении от 7 марта написали, что вместо вас избран бакшей гелюнг Сайбунг Замбаев» [НА РК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 37. Л. 96]. Как правило, в заголовках писем, адресованных Ламе калмыцкого народа, его имя не указывается; исключение составляет одно письмо от 14 июня 1849 г., адресованное «достопочтеннейшему Ламе калмыцкого народа Джинчынгу» [НА РК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 37. Л. 98]. Приведенные документы свидетельствуют о том, что Джинзан-бакши был избран на должность Ламы калмыцкого народа в период в начале 1849 г. и занимал ее вплоть до своей кончины в 1852 г., о чем пишет Э.П. Бакаева:
…в 1851 г. ламой Джинцаном была послана докладная записка министру госимуществ по вопросу об увеличении численности калмыцкого духовенства. Ответ министра был датирован апрелем 1852 г., однако в июне 1852 г. было зафиксировано, что в связи со смертью ламы Джинцана ответное письмо было оставлено в делах Ламы для ознакомления его преемником [Бакаева 2005, 128].
В материалах фонда И-42 даже обнаруживается информация о передаче Багацохуровским бакши некой книги профессору Попову: в реестре журналов за 1840 г. от 30 декабря указано «О сделании замечаний бакше Джинзану за отдачу книги профессору Попову» [НА РК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 27. Л. 3 об.] и в таком же реестре за 1842 г. от 30 мая также упоминается передача книги Багацоху-ровским бакши Попову [НА РК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 28. Л. 2]. Как указано в первой части исследования, в рукописном фонде библиотеки Восточного факультета СПбГУ под шифром Calm C 19 хранится и второй, более ранний список рассматриваемого сочинения. Он входит в состав коллекции А.В. Попова под номером 72, ойратская часть которой, как пишет В.Л. Успенский, была приобретена профессором во время поездки к калмыкам в 1838 г. [Catalogue of the Mongolian manuscripts... 1999, X]. Скорее всего, именно о нем идет речь в реестрах 1840 и 1842 гг.; таким образом, передачу данной рукописи профессору А.В. Попову можно датировать не 1838 г., а 1840–1842 гг.
Как отмечалось в первой части исследования, сочинение «Зерцало разума» имеет выраженный дидактический характер и содержит буддийские наставления о добродетели и грехе (главы №№ 1 и 95), о качествах хорошего (глава № 45) и плохого человека (глава № 46), об отличии человеческого рождения от рождения животным (послесловие после 95-й главы [Calm C 12, тетрадь 1, л. 46v–47r]) и пр., но, кроме этого, содержит сведения о формировании материального мира (главы №№ 2–9), о формировании человеческого тела в утробе (главы №№ 13–15), о мироустройстве (главы №№ 16–22), которые показывают хорошее знание автором, в частности, таких сочинений, как «Абхидхармако-ша» Васубандху, в котором излагается буддийская теория возникновения материального мира, и основополагающий труд по тибетской медицине «Чжуд-ши», во второй главе которого описан процесс развития плода в материнской утробе по неделям, так же, как это изложено в сочинении «Зерцало разума». Ниже приведем транслитерацию и перевод соответствующего фрагмента текста из глав №№ 13–15:
[7v] üride dolōn |24| xonogiyin caq-tu: üsen-dü targiyin eke keqsen metü [8r] šüüsün cusun xolilduxu: xoyur-duγār dolōn |2| xonoq-tu šalxalzaxu bolxu: γutaγarduqči dolōn |3| xonoq-tu taraq toqtoqsen metü bolxu: dötögör
|4| dolōn xonoq-tu tögürüqlen melmelzen unǰiγulzaxu |5| töün-ēce ere eme maning ulmār bolxu: tüüni |6| temdeqtü ekēn umai kündeden biye ecen: ebešēn |7| sunūn: zalxurxu: kökün urγuxui išikelengdü bayasun |8| zürkün-dü eldebe durulxu: tere duru xāxuli |9| umayidaki ebederǰi durusun tal-maǰi ügei bolxu: |10| tere tölei-dü xurulxu bolba či tustalan niyilüülēd |11| üčükeni ökü: dabataγār dolōn xonoq-tu biyēn |12| üride kiyisen toqtoxu: zurγa-duγār dolōn |13| xonoq-tu kiyisen-dü šütüǰi γol sudusun toqtoxu |14| dolo-duγār dolōn xonoq-tu nidüni erketü dürsün/dü durulxu: nayimi-duγār dolōn xonoq-tu duruluq/san tüün-dü šütēd toloγōn duru γarxu: yese-duγār |17| dolōn xonoq-tu biyēn dürü köbüdüq cēǰi böqsö |18| toqtoxu: arba-duγār dolōn xonoq-tu: xoyur ēm |19| kiyigēd xoyur šüüǰi doboqči γarxu: arba nige-duγār |20| dolōn xonoq-tu nidün terigüüten erketü yesüni |21| dürsen ternekü: arba xoyur-duγār dolōn xonoq-tu |22| zürkün öšiki elgen delüün bȫre tabuni dürü dürsün |23| γarxu: arba γutaγār dolōn xonoq-tu: cösün xota: |24| gedesün: γolγai: dabasaq: niγuuca saba: ene zurγāni [8r] dürü dürsün ternekü: arba dötögör dolōn xonoq/tu: emiyin čimegen: γuyayin čimegen dörbüni dürü γarxu: |3| arba tabataγār dolōn-du köl γariyin γuur šilbe γarxu: |4| arban zurγa-duγār dolōn-du xorin xurγun ternekü: |5| arba dolodaqči do-lon xonoq-tu γadar dotoriyin |6| kirei kelkei sudusun-noγuud toqtoxu: arba nayimi/duqči dolōn-du maxa öken toqtoxu: arba yese/düqči dolōn-{du} bülkün šürbüsün toqtoxu: xori/duqči dolōn-du yasun kiyigēd čimgen tosun toq/toxu: xori nigedüqči dolōn-du γadana arsun |11| bürküküü: xorin xoyur-duqči dolōn-du niden |12| terigüüten erketeyin üüdün yesüni nükün nēq/ dekü: xori γutuγār dolōn-du üsün kiyigēd šara |14| üsün xumsun urγuxui: xori dötögör dolōn-du |15| udxu saba todorxai bolbasarxu: tere caq-tu |16| amuγuulang zobolonggiyin ilγal medkü: xori dabtaγār |17| dolōn-du amisx-aliyin güüdül γarxu: xori zurγa/duγār-tu sedkeliyin sanul toqtoxu: tegēd dörbün |19| dolōn xonoq-tu kürtülü xamuq todorxai töskü |20| bolxu: tegēd basu tabun dolōn xonoq kürtülüü |21| xamuq yekedü arbiǰin üyiledkü eke köbüün |22| xoyuriyin tus beredü önggü dürüni ilγaraxu |23| tegēd γučin zurγaduqči dolōn xonoq-ēce |24| üzüqdüldü ülü bayasun uduxuun xurān medekü [8v] bolxu: γuči doloduqči dolōn-du: urbaxuyin |2| xuran medekü bolxu: γuči nayimi-duγār dolōn xonoq/tu: toloγoi böqsö urban umai-ēce γarxu: |4| tere metēr umayidu arbiǰin delgeren bolbasaruqsan |5| caq-tu: yesün sara önggürēd niyirlaxu caq mön: |6| küükün tere čü baruun taldu tüšeǰi baruun |7| söbē öndürdün biye könggün züüdüdü ere |8| küme üzükü: baruun köküni üsün üride γarxu/lani köbüü törkü: ere kümenle učiraxu du-rulun |10| duun büǰiq čimeq-tü bayasxu bišengkeni üridki/ēce urbuxuli oki törökiyin temdeq tede |12| bügüde xolimiq bolxulai xoyur belgetei maning γarxu |13| geseni dundukini boγoniyidun xoyur zaxuni öndür |14| bolxulai: ikerei törkü:: :: |15| arba tabuduγār bölöq: tegēd tüüni xoyino dörbün |16| xonoq bolād üyilēn kiyikēr toloγoi uruu xandan |17| köl dēqši urbād: xoyur γariyin xumǰi xoyur emēn |18| xurāǰi küčin yeke üülēn kiyikēr tülkeqdēd |19| yasuni üüten nükün-ēce šaxuluurār tarāni toso |20| šaxaǰi abadaq metü zobolong edeleqsēr γazarā |21| γazar-tu unduq mön: zobolongduni kirece-kele |22| üküǰi bolxu metü bolba čigi töüden ükükü |23| üyile xurāqsan biši zoboǰi γarxu üüle xurāqsan [9r] tölei-dü: amidu γaradaq mön: tere cagiyin zobolong |2| caqtān medebe čigi toma ügei tölei-dü: xoyino |3| martanei geǰi nomloqson tüüni čigi ergüülün |4| sanuqtan [Calm C 12, тетрадь 1, л. 7v–9r].
Один из первых переводов полного текста «Чжуд-ши» был выполнен с монгольского языка А.М. Позднеевым и опубликован с параллельным текстом сочинения на классическом монгольском письме [Учебник тибетской медицины 1908]. Сопоставление с монгольским текстом, опубликованным А.М. Позднеевым, показывает, что приведенный выше фрагмент сочинения Джинзан-бакши практически полностью совпадает с главой 2 «О создании тела». Монгольский текст сочинения представляет собой дословный перевод с тибетского, на что указывает сам А.М. Позднеев [Учебник тибетской медицины 1908, II]. Можно предположить, что Джинзан-бакши при составлении своего труда мог использовать текст «Чжуд-ши» либо непосредственно в тибетском оригинале, либо в ойратском переводе, который встречается в перечне сочинений Зая-пандиты Намкай Джамцо, переведенных с тибетского языка [Музраева 2013, 61, № 89]. Примечательно, что в архивных документах нет прямых указаний на медицинскую практику Джинзан-ламы. Однако, как отмечает Н. Уланов в своей книге «Буддийско-ламайское духовенство донских калмыков, его современное положение» (1902 г.), монахи, получавшие степень гелюнга (которую Джинзан-лама принял в 1831 г.), обязаны были изучать не только богословие, но и медицинские трактаты, включая «а) Зави-джюд, б) Шадби-джюд, в) Монгак-джюд, г) Чима-джюд, Лзоншаб, е) джедю-нигнор, д) все комментарии к ним» [От Волги до Лхасы… 2014, 159]. Другими словами, степень гелюнга, которую Джинзан-лама получил в 1831 г., подразумевала знание трудов по тибетской медицине, что и подтверждает вышеприведенный фрагмент сочинения «Зерцало разума».
Рассмотренный в статье памятник «Зерцало разума» представляет исключительный интерес для исследователей, поскольку относится не к переводам с тибетского языка, составляющим основной массив буддийской литературы на «ясном письме», а к оригинальной калмыцкой религиозной традиции первой половины XIX в. Автор сочинения, Джинзан-бакши (полное имя – Цурюмин Джинзан), как следует из вышеприведенных архивных источников, был известным буддийским монахом, который, будучи в период с 1838 по 1849 гг. главным ламой Багацохуровского улуса и настоятелем Большого хурула Ламримлинг, общался и с учеными, приезжавшими в научные командировки к калмыкам, в частности с автором первой академической грамматики калмыцкого языка профессором Казанского университета Александром Васильевичем Поповым. Можно лишь предполагать, что Джинзан-бакши обладал определенным авторитетом среди буддийского духовенства того времени, поскольку именно к нему обратился А.В. Попов с просьбой составить объяснение буддийской доктрины. Анализ текста подтверждает высокую образованность Джинзан-ламы, особенно в области тибетской медицины (см. главы №№ 13–15). Дальнейшее изучение сочинения позволит глубже понять специфику калмыцкого буддизма первой половины XIX в., который, сохраняя связь с тибетской традицией, развивал самобытные черты.