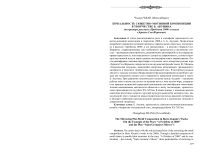Зеркальность сюжетно-мотивной композиции в творчестве Б. Акунина (на примере рассказа «Проблема 2000» и пьесы «Зеркало Сен-Жермена»)
Автор: Чэндун Чжан
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается роль и специфика зеркальности сюжетно-мотивной композиции в творчестве 2000-х гг. Б. Акунина. Посредством подробного сравнения мотивной цепочки в параллельных сюжетных построениях в рассказе «Проблема 2000» и его продолжении - в комедии «Зеркало Сен-Жермена», охарактеризованы три особенности зеркальности в акунинских текстах - чрезмерная симметричность, разграничение двоемирия без учета иерархии, кривая зеркальность, или нацеленность сатиры на современность, соответствующую акунинской модели мира в рамках постмодернистского мировоззрения. После расшифровки значения иероглифа в титульном листе интертекстуальная игра «Зеркала Сен-Жермена» определяется как акунинский ремейк пьесы Ю. Мисимы «Ханьданьская подушка», являющейся авторским воплощением традиционного китайского и японского гипермотива «ханьданьский сон». В интертекстуальным диалоге с данным мотивом обнаруживаются функционирование волшебного зеркала как эквивалента вещего сна и миражность зеркальной композиции в тексте Б. Акунина. При сравнении тематического сходства между пьесами - ощущения рубежа эпохи «жизнь как суета» но желания жить в этом пустом мире, утверждается принцип акунинской зеркальной композиции как своеобразное повествовательное высказывание менталитета общества в эпоху постмодерна, хронологически приходящегося на рубеж XX-XXI вв. В конце концов, с помощью анализа адаптации восточного сюжета к русской культуре выявляется механизм того, как акунинский текст становится новым андрогином восточно-западной литературы и обладает свойствами кросскультурной зеркальности и увеличения энтропии в современной литературе.
Б. акунин, зеркальность, сюжетно-мотивная композиция, ремейк, гипермотив «ханданьский сон», литература рубежа xx-xxi вв
Короткий адрес: https://sciup.org/149139702
IDR: 149139702
Текст научной статьи Зеркальность сюжетно-мотивной композиции в творчестве Б. Акунина (на примере рассказа «Проблема 2000» и пьесы «Зеркало Сен-Жермена»)
В творчестве Б. Акунина нетрудно натолкнуться на параллельные повествовательные структуры, в которых не только чередуются два хронотопа, две сюжетные линии, как в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» или в романе В.О. Пелевина «Чапаев и Пустота», но явно прослеживается зеркальность сюжетно-мотивной композиции, т.е. в тексте или в паре-текстах параллельные сюжеты подобны смотрящему в зеркало человеку и его отражению. Заметим, что данная черта в основном была использована в его произведениях 2000-х гг, в том числе и прозаических: рассказе «Проблема 2000» (2000), парных романах «Любовник смерти» (2001) и «Любовница смерти» (2001), всех романах в серии «Приключения магистра» («Алтын-Толобас» (2001), «Внеклассное чтение» (2002), «Ф. М.» (2006) и «Сокол и Ласточка» (2009); и драматических: пьесах «Зеркало Сен-Жермена» (2002) и «Инь и Янь» (2006). Тем не менее, после первого десятилетия XXI в. Б. Акунин перестал использовать зеркальную композицию как базовой прием построения целого текста.
О зеркальности сюжетно-мотивной композиции в текстах Б. Акунина пока нет специального исследования, но в процессе изучения поэтики писателя нередко указывалась данная особенность: создание полифонии сцеплением сюжетов «Любовник смерти» и «Любовница смерти», что заставляет «вспомнить «музыкальную» поэтику композиции у символистов, в частности - симфонии Андрея Белого» [Ранчин 2004, 112]; непроницаемость истории и высокомерного изоморфизма двух сюжетных линий в детективе «Алтын-Толобас» [Ранчин 2011, ПО]; соотнесенность поступков и характеров персонажей современной части «Ф. М.», что аналогично роману Достоевского «Преступление и наказание» и самому акунинскому ремейку «Теорийка» [Латынина 2006, 150-151] и т.д. Особенное внимание обращаем на точку зрения М. Черняк, понимающей сюжетную зеркальность Б. Акунина как основной художественный прием «выявления игрового начала в переходной эпохе, восприятия сложных социально-исторических процессов в карнавальном хаосе» [Черняк 2007, 30]. Соглашаясь с ней, поставим вопрос в другом ракурсе: почему, кроме отражения игровой сущности, зеркальность сюжетно-мотивной композиции стала ключевой и столь значимой в акунинском творчестве того периода?
Целью данной работы является раскрытие роли и специфики зеркальной сюжетно-мотивной композиции в творчестве Б. Акунина 2000-х гг. посредством мотивного и интертекстуального анализов рассказа «Проблема 2000» и пьесы «Зеркало Сен-Жермена». По хронологии публикаций первая акунинская попытка построения зеркальной композиции сюжета нашлась в «Проблеме 2000» из сборника сатирических рассказов «Сказки для идиотов». Сюжет рассказа потом был адаптирован и продолжен в двухактной комедии «Зеркало Сен-Жермена». Наша работа в основном сосредоточена на анализе сюжета пьесы, в которой первый акт построен на том же сюжете рассказа, и только при необходимости указаны изменения в обоих текстах. Чтобы понять значимость зеркальности для писателя, в статье также рассматриваются влияние литературоведческих работ самого Григория Шалвовича Чхартишвили (настоящее имя Б. Акунина) о творчестве японского писателя Ю. Мисимы и важности слияния Востока и Запада в современной мировой литературе, которые повлияли на его литературное творчество.
Сюжетно-мотивная композиция в «Зеркале Сен-Жермена»
Зеркальность, увиденная в творчестве Б. Акунина, - это скорее сюжетообразующий принцип, или механизм рецепции, рассчитанной на реакцию читателей, а не на символический смысл зеркального образа. Среди указанных выше произведений, образ зеркала действительно существует и функционирует в качестве временно-пространственного трансфера только в сюжете «Зеркала Сен-Жермена» («Проблемы 2000»). С его помощью принцип исторической непроницаемости, обнаруженный в детективе «Алтын-Толобас», был отменен в этой хронофантастике. Тем не менее, ее все-таки можно рассматривать как литературный манифест поэтики зеркальности писателя. И вот почему.
Описание театральной декорации и сценарных переходов в ремарке пьесы - вроде бы иллюстрация к акунинским текстам с зеркальной сюжетно-мотивной композицией:
«Сцена разделена на две части. Две комнаты очень похожие одна на другую -с лепниной и барельефами. <...> На перегородке, разделяющей сцену, боком к зрителю, видна - профилем - пышная бронзовая рама зеркала, вернее, двух зеркал, висящих на одном и том месте, но по разные стороны перегородки. Действие происходит попеременно то в левой, то в правой половинах сцены, которые, соот- ветственно, освещаются или затемняются» [Акунин 2002а, 8].
Фразы четко совпадают с ощущением театрального представления при чтении ряда приключений Николаса Фандорина и его предков из разных эпох, обусловливающих полифонию в корпусе текстов, сфокусированных на самом Эрасте Фандорине.
Комедия показывает мистическую историю, вызванную силой зеркала Сен-Жермена, с которым связана легенда - «если в новогоднюю ночь чокнуться с ним шампанским ровно на шестом ударе часов, то зеркало исполняет любое желание, самое невероятное» [Акунин 2002а, 19]. При встрече с наступающим новым веком, отставной лейб-гусар Константин Львович Томский, управляющий кредитно-ссудным товариществом «Добрый самаритянин» в конце XIX в., и «новый русский» Вован, генеральный президент инвестиционно-маркетингового холдинга «Конкретика» в конце XX в., неожиданно обменялись душами и переместились во времени из-за магии зеркала, что стало точкой начала остальных событий.
Обобщая основные взаимосвязанные сюжетообразующие мотивы или мотивы-антитезы, излагаем следующую парадигматику действенного измерения текста:
Мотив утраты / получения «репутации». Из-за растраты больших денег и яростного требования репараций от кредитора Солодовникова, Томский ждал наступления XX в. в попытке самоубийства перед зеркалом Сен-Жермена. Получив халявную «недвижку» обманом от редакции журнала «Родная речь», Вован готовился к новой жизни в XXI в. с торжественным тостом перед том же зеркалом.
Мотив волшебного зеркала (перемещения во времени). Томский сознательно организовал ритуал зеркальной магии («Господи, которого нет, я не хочу жить в гнусном, плебейском столетии, что начинается с сей минуты» [Акунин 2002а, 14]), а Вован неосознанно («Ты всех сделаешь! Уау! Век воли не видать!» [Акунин 2002а, 23]). Таким образом, они обменялись душами, Томский оказался в начале XXI в, а Вован - в начале XX в.
Мотив получения успехов и любви. Вован (в теле Томского), не побоявшийся нарушить свое обещание, успешно уговорил Солодовникова и снова влюбил жену Зизи в себя легкомысленным и нелепым поведением. Благодаря знанию современного бизнеса и процесса российской истории («Отстегну сколько надо этим, из КПРФ - они тоже не лохи, сговоримся» [Акунин 2002а, 41]), он быстро добился больших успехов в начале XX в. С другой стороны, благодаря своим рыцарским манерам Томский (в теле Вована) тоже приобрел авторитет среди «новых русских» и завоевал любовь своей секретарши Клавки. «Никогда еще при мне так не оскорбляли даму! За такое платят кровью!» [Акунин 2002а, 42]. Оказывается, вызов на дуэль становится чертой сурового бандитского поведения в начале XXI в. (Отсюда закончил первый акт, т. е. сюжет рассказа «Проблеме 2000»).
Мотив ностальгии. Несмотря на то, что оба они построили невообразимо успешную карьеру в ином времени, Томский и Вован постепенно по-242

няли, что «в гостях хорошо, а дома лучше», поскольку не только жизненные и речевые стили, но и их мировоззрение были неуместны в эту эпоху
Мотив волшебного зеркала (перемещения во времени). Чтобы вернуться в свою эпоху, перед зеркалом Вован в кануне Нового года 1902 г. загадал желание попасть на 100 лет вперед, а Томский в новогоднюю ночь 2002 -100 лет назад.
Мотив заблуждения и освещения. Из-за маленькой оплошности Вован (в своем теле) оказался в 2102 г, а Томский (в своем теле) - в 1802 г. Сюжетная линия Вована завершается его диалогом с китайским мудрецом Те Гуанцзы и засыпанием, а в финале сцены появился граф Сен-Жермен (ремарка о графе: «в то же время это все тот же старец Те Гуанцзы - зритель должен это сразу понять» [Акунин 2002а, 72]), который тоже ждал встречи с Томским. Казалось бы, целая история происходила как результат манипуляций графа Сен-Жермена / Те Гуанцзы.
Пространное изложение, приведенное выше, помогает нам наиболее наглядно описать зеркальность как основной прием построения сюжетно-мотивной композиции пьесы, которая отличается следующими особенностями:
Чрезмерная симметричность. В комедии два параллельных сюжетных хода повествуются попеременно и в их развертывании звенья мотив-ных цепочек в целом соответствуют друг другу по пунктам. Здесь нетрудно найти влияние драматургии японского писателя Ю. Мисимы, чьи многие произведения были переведены на русский ГШ. Чхартишвили. В предисловии к сборнику «Избранное» (1996) - «Жизнь и смерть Юкио Мисимы, или как уничтожить храм», он точно указывает на симметричную композицию и ее функцию в пьесе «Мой друг Гитлер», которую «отличает строго геометрическая выверенность и продуманность сюжета, сценической композиции. <.. .> Классический канон выполняет особую функцию: контрастирует со “злонамеренностью” авторского замысла, оттеняет иронию и эпатаж» [Чхартишвили 1996, 17]. Ту же роль играет зеркальность в творчестве Б. Акунина. Контраст уголовного жаргона и поведения «нового русского» с речью и манером светского общества рубежа XIX XX вв. внес в пьесу много комических эффектов.
Более того, нужно добавить, что хотя в пьесе и рассказе композиционная симметрия проявляется и на сюжетном уровне, и на мотивном, но в поздних романах, особенно в «Ф. М.» и «Соколе и Ласточке», симметричность отражается в пласте мотивики - пары мотивов еще остаются, но из-за фрагментарности постмодернистской игры и детективной интриги не по пунктам воплощаются в сюжетных ходах.
Разграничение двоемирия без иерархии. В русской литературе зеркало как «граница семиотической организации и граница между “нашим” и “чужим” мирами» [К семиотике зеркала... 1988, 4] всегда является важным компонентом построения модели двоемирия. В отличие от романтизма и символизма (где мир разделяется на бинарные оппозиции: земной и потусторонний, материальный и духовный, «там и тут»), по мнению
А.Г. Коваленко, трансформация двоемирия в постмодернизме заключается в том, что оно «выступило объектом особой эстетической игры, в результате которой художественная реальность становилась полем столкновения достоверного и мнимого времени-пространства» [Коваленко 2000, 146]. В творчестве Акунина оба мира, разделенные зеркальной композицией, находятся в разных временно-пространственных координатах, выглядят достоверными и соответствующими мироустройству текста. Формула основной модели двоемирия у него - «фолк-хистори / альтернативная история + фолк-хистори / современный мир / альтернативное будущее», между которыми нет эстетической, моральной или религиозной иерархии и конфликта, и поэтому невозможно подтвердить, какой из них является оригиналом, а какой - отражением. Зеркальная мотивная композиция приводит к симметричным поступкам персонажей (вроде отражения в отражении), что усиливает эффект парадоксальности и мнимости всех событий.
Кривая зеркальность, или нацеленность сатиры на современное.
Несмотря на принцип акунинского двоемирия без иерархии, сатира Акунина всегда больше нацелена на пороки современного общества, чем на злодеяния в выдуманной им истории, и соответственно, сатирический эффект как минимум вдвое увеличивается. В зеркальности композиции отражена метафора кривого зеркала - «его простейшие частные случаи -вогнутое и выпуклое зеркало - могут служить моделями, соответственно, гиперболы и литоты» [Левин 1988, 10]. Взяв воплощение мотива получения успехов в контекстах двух эпох как пример, можно заметить, что и успешные карьеры у Вована, и у Томского представляют собой прямую сатиру на грубость и коварство «нового русского».
«Зеркало Сен-Жермена» как русская версия «Ханьданьской подушки»
Сделав паузу в анализе композиционной организации текста, теперь обратимся к фирменному акунинскому приему - интертекстуальной игре, благодаря которой детективы «Приключения Эраста Фандорина» с самого начала привлекали внимание литературоведов и критиков. Представим нашу гипотезу: акунинский текст следует воспринимать как ремейк классики, вместе с оригиналом он создает зеркальное отношение между текстами, в то же время семантика «исходного текста», в свою очереди, отражается на семиотическом поле зеркальной мотивной композиции внутри ремейка.
По определению М. Загидуллиной, ремейк - «это переписывание известного текста, чаще всего - “перевод” классического произведения на язык современности. Отличие ремейка от интертекстуальности литературы нового времени заключается в афишированной и подчеркнутой ориентации на один конкретный классический образец, в расчете на узнавае-

мость “исходного текста”» [Загидуллина 2004, 214]. Данное отличие действительно применяется к проекту - ремейку массовой литературы, целью которого служит коммерческий успех. Однако, поскольку сочинение пьесы, по словам писателя, - это дело «не для читателя и не для зрителя, это я делаю для себя» [Чхартишвили 2002], ситуации в его драматургических ремейках разного порядка: есть те, в которых Акунин прямо указал исходный текст в заглавии («Чайка», «Гамлет. Версия»), и есть «Зеркало Сен-Жермена», где автор только оставил слишком тайный ключ к пониманию исходного, чтобы немало читателей считали текст оригинальным.
В контексте постмодернизма («мир как текст», или «весь мир театр», по Акунину, нити, ведущие к раскрытию интертекстуальной игры) писатель представил эти нити не только внутри художественного текста, но и в визуальной форме книги. «Зеркало Сен-Жермена» - комедийная часть пьесы-перевертыш «Комедия / Трагедия», где еще собрана трагедия «Гамлет. Версия». На титульных листах книги, с одной стороны, под словом «трагедия» напечатан силуэт Гамлета, а с другой стороны, под «комедией» - китайские иероглифы «WW» (в японской письменности так же пишут слово «Ханьдань»). Из-за культурных барьеров для большинства россиян это просто экзотический восточный символ, но для тех, кто хорошо знает восточную культуру, это ключ, афишированный востоковедом ГШ. Чхартишвили, к расшифрованию загадки.
«Ханьданьская подушка» или «ханьданьский сон» - китайский и японский фразеологизм, который «означает “суета”, “тщета”, “несбыточные мечты”» [Чхартишивили 1996, 16], и постоянно используется для выражения смысла «жизнь как иллюзия». Выражение восходит к китайской новелле Шэнь Цзицзи «Волшебное изголовье» (VIII в.). Новелла повествует о том, что в городе Ханьдань в постоялом дворе бедный юноша Лу получил волшебное изголовье от даоса и заснул на нем. Во сне юноша пережил свою жизнь - и удачную, счастливую, и злополучную, тюремную, но в старости ушел из жизни счастливым. Когда Лу проснулся, он понял, что все произошедшее было просто пустым сном (полный перевод новеллы на русский см. [Шэнь Цзицзи 1975, 54-59]). С тех пор, «ханьданьский сон» стал гипермотивом, и его трансформация существует в различных китайских и японских жанрах. В отличие от китайской литературы, традиционная японская версия иная: оставив несчастья героя во сне и заменив смерть эликсиром бессмертия, этот текст идейно подчеркивает потустороннее спасение, жизнь как иллюзию в контексте сильного влияния дзэн-буддизма - после сна Лу получил великое буддийское просветление [Yang Qiuhong2015, 140-141].
Тем не менее, «исходный» текст акунинского ремейка, по нашему мнению, опирается не на традиционные, но на произведения современной японской классики, переведенные на русский Г.Ш. Чхартишвили. Подобно концепции «“Чайка” Б. Акунина как зеркало “Чайки” Чехова» [Ко-стова-Панайотова 2015, 5], «Зеркало Сен-Жермена» - это русское зеркало «Ханьданьской подушки» Ю. Мисимы (1950), которая тоже оказывается вторичной - ремейком одноименной классической японской пьесы Но (автор считается Дз. Мотокиё). В современной версии Мисимы концепция «иной мир как спасение» подвергается деконструкции.
Восемнадцатилетний юноша Дзиро уже понял пустую природу жизни и хотел умереть («Женщины - мыльная пена, деньги - мыльная пена, слава - мыльная пена. В этих радужных пузырях отражается вся наша жизнь» [Мисима 1996, 365]). В ханьданьском сне, видя красавиц, имея деньги, власть (он был директором компании, и потом премьер-министром Японии), он не мог получить великое просветление, и сон не мог закончиться с принятием эликсира бессмертия, поэтому духи в подушке предложили ему смерть, но он тоже отказался: «Уж хоть во сне-то я могу быть свободным? Хочу - живу, хочу - не живу, не твое дело» [Мисима 1996, 379]. Раз в постороннем мире тоже есть суета и тщета и нет свободы, почему нельзя выбрать жить самостоятельно? Сон закончится с криком Дзиро «Поживу еще!», и в реальности цветы в саду оживают.
Сравнивая мотивные цепочки между «исходным» и ремейком, сведенные в следующую таблицу, покажем зеркальные связи между ними на уровне сюжетосложения.
|
«Зеркало Сен-Жермена» |
«Ханьданьская подушка» |
|
Утрата / получение «репутации» |
Утрата смысла жизни |
|
Перемещение во времени |
Засыпание |
|
Получение успехов и любви |
Испытание любви, денег и власти |
|
Ностальгия |
Отказ от смерти |
|
Перемещение во времени |
Просыпание |
|
Заблуждение и освещение |
Продолжение жизни |
В принципе, семантика гипермотива «ханьданьский сон», не только аналогична семантике «вещего сна» или зеркала, функционирующего как его эквивалент в семиосфере русской культуры (например, в балладе Василия Жуковского «Светлана», в романе в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин»), но синонимична постмодернистской чувствительности, где есть мотив «мир как суета, тщета», с добавлением в двоемирие Зазеркалья в акунинском тексте миражной особенности. Однако, только деконструкция гносеологической и эстетической иерархии между реальным и онейрическим мирами в произведении Мисимы позволяла Акунину адаптировать этот сюжет в темпоральной фантастике с построением параллельных, полуреальных и полуфиктивных линий, и затем использовать построение зеркальной мотивной композиции как прием раскрытия иллюзорности русского общества постмодерна, независимо от того, настолько бы реальным оно описывалось в серии «Приключения магистра».
Тем более, тематическая связь между ремейком и образцом тоже помогает нам понимать суть акунинского текста. Это ситуация «рубежа веков», проблема «нулевого года», которая появилась необязательно с астрономическим рубежом, а скорее в связи с «границей между культурами» [Лихачев 1996, 97]. Для большинства стран, включая Японию, окончание Второй мировой войны - это «нулевой год» современного мира (например, фильм Роберто Росселлини «Германия, год нулевой», книга И. Буру-мы «Нулевой год: История 1945 года» и т. и.). Дзиро - это типичный образ потерянной молодежи Японии после поражения во Второй мировой войне. Развал милитаризма и обнаружение ложности военной и политической пропаганды привели людей того поколения к утрате смысла жизни. Хотя сам писатель в конце концов решил покончить с собой, в пьесе показался другой конец - Дзиро выбрал вариант продолжать жить в этом пустом мире, и символ надежды снова расцвел.
Заглавие «Проблема 2000» - это уже тематическое обобщение сюжета: рубеж XX XXI вв. стал «нулевым годом» современной России. Акунин, конечно, имел в виду огромный социально-культурный перелом, а не календарный рубеж. Посредством автоинтертекстуального диалога между рассказом и пьесой, миф о рубеже веков даже скрытно подвергся десакрализации. Действие рассказа начинается в последнюю ночь 1899 г, а в пьесе - 1900 г, но Константин Львович в обеих версиях верил ожиданиям от встречи с новым веком (в рассказе: «Иисус родился 25 декабря предгода, то есть именно что в нулевом году, и, стало быть, первый год двадцатого века - 1990-й» [Акунин 2002b, 140], а в пьесе: «Не сметь! Пока еще мой век! До вашего, двадцатого, <...> три минуты!» [Акунин 2002а, 13]). Так, парадоксальные временные установки показывают нам незначительность и искусственность календарного рубежа, и делают акцент на границе между культурами. Таким образом, это проблема 2000-х гг, которую писатель хотел отразить в зеркальной мотивной композиции, и может быть, поэтому он отказался использовать этот прием после первого десятилетия новой эры.
Менталитет рубежа XX XXI вв. в России по совсем иной причине аналогичен ситуации в послевоенной Японии. Б. Акунин заимствовал и адаптировал сюжет «Ханьданьской подушки» отчасти с целью выражения того, что каким бы причудливым, хаотичным и бессмысленным ни был мир, мы должны признать его и сделать свой выбор, точно так же, как Вован и Томский, получив успех в иной истории, знали, что «в гостях хорошо, а дома лучше».
Однако, в отличие от Мисимы, который не смеялся над Дзиро, Акунин в своей трансформации восточного мотива изобразил открытую сатиру на поведение главных героев. В развязке из-за жадности им не удалось вернуться в свой мир и, казалось бы, попали на 100 лет назад / вперед, но больше похоже на то, что они всегда остаются во сне, созданным графом Сен-Жермена / Те Гуанцзы, и не смогут проснуться. Финал не только приводит к комическому эффекту, но и содержит достаточные смысловые по- тенции для размышления.
Очевидно, акунинский ремейк в данной пьесе не имеет целью деконструкцию, и ирония над «исходным текстом» соответствует принципам, суммированным М. Арпентьевой, - текст «не цитирует и не пародирует источник, но, по своей первичной функции, наполняет его новым, более актуальным в данной социально-политической и культурно-исторической среде содержанием, “с большей оглядкой” на образец» [Арпентье-ва 2016, 9].
Более того, Акунин совершил замечательную локализацию неизвестной россиянам классики путем замены восточных элементов русскими эквивалентами. Например, ханьданьская подушка заменилась зеркалом Сен-Жермена, которым по преданию имеет та же функцию - увидеть будущее и узнать свою судьбу [Бессмертие графа... 2010]. Этот образ известен всем, погруженным в русский художественный контекст, благодаря «Пиковой даме» А.С. Пушкина, и соответственно, Луцкий (юноша Лу) в рассказе «Проблема 2000» превратился в Томского, праправнука Анны Федотовны. Тема роковой судьбы «Пиковой дамы» также нашла отображение в сюжете пьесы. Чтобы усилить ассоциацию функции зеркала со сном, Акунин также подобрал традиционный русский романтический жанр - святочный рассказ, в котором сон зачастую является «важнейшим символическим и сюжетным эпизодом» [Синякова, Козлова 2016, 195], и подчеркнул это в подзаголовке: «Типа святочный рассказ» и «Святочная история в двух действиях».
Таким образом, «Зеркало Сен-Жермен» становится типичным примером нового литературного андрогина, которого высоко ценит литературовед Г.Ш. Чхартишвили в статье о тенденции слияния Запада и Востока в мировой литературе конца XX в. Ему присущ признак андрогинности: «при одной голове у нее два лица (одно обращено к восходу, второе к закату), два сердца, двойное зрение и максимально устойчивый опорно-двигательный аппарат» [Чхартишвили 1996, 258], с помощью которой растет литературная энтропия - «постепенное отмирание противостояния, конфликта, встречное движение Инь и Ян» [Чхартишвили 1996, 262].
В статье под таблицей о различениях между культурами Востока и Запада он пишет: «Главное здесь не конкретные антонимические пары, а сама зеркальность. “Восточное” - это то, что представлялось Западу чужим, непохожим, экзотичным. И, разумеется, наоборот» (курсив автора - Ч.Ч.) [Чхартишвили 1996, 254-255]. Да, если раньше основное свойство межкультурной зеркальности в литературе являлось отражением экзотичности и мистичности иного мира, другой культуры, то акунинская зеркальность отображает синтетичность, андрогинность различных культур, и исторических, и восточно-западных, которая также была найдена в серии о приключении Эраста Фандорина (см. [Циплаков 2001, 159-181]). По этой причине Б. Акунин считается представителем позднего постмодернизма [Липовецкий 2002, 210].
Итак, зеркальная сюжетно-мотивная композиция внутри текста Б. Аку-
нина как своеобразное повествовательное высказывание менталитета в обществе постмодерна рубежа XX XXI вв. уже прекратилась с завершением проекта «Приключения магистра» в 2009 г. Тем не менее, кросскуль-турная интертекстуальная зеркальность / андрогинность продолжалась и продолжится оживать в его дальнейшем творческом пути (проект «История Российского государства», «Сказки народов мира», «Просто Маса» и т. д.).