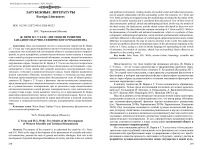Ж. Верн и Г. Уэллс: две модели развития западного научно-технического романтизма
Автор: Черняховская Юлия Сергеевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 4 (55), 2020 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования состоит в осмыслении творчества Ж. Верна и Г. Уэллса как этапа развития феномена научно-технического романтизма, представленных ими особенностей соотношения общего и художественного мировоззрений, их роли в разработке духовно-идеологических основ социума и государства в новой культурно-политической обстановке, создания моделей возможного общественного устройства и презентации поведенческих образцов отношения с окружающим миром. Творчество Ж. Верна и Г. Уэллса исследуется посредством методологии, разработанной автором статьи в более ранних исследованиях, и рассматривается с точки зрения трех уровней идеального конструирования: политического, этического и антропологического идеала. Таким образом выявляются модели идеального общества, идеального человека и этическая система, разработанная двумя названными писателями. Высказывается тезис об общей принадлежности Ж. Верна и Г. Уэллса к феномену научно-технического романтизма, представляющего синтез антропологического оптимизма, социального сциентизма и гуманистического технократизма, при их различии в мере сциентического оптимизма/пессимизма и некой разнице темпераментности, типе деятельностного присутствия в мире. Автор выдвигает гипотезу, что в произведениях Ж. Верна авантюрно-приключенческое начало является инструментальным, будучи художественным языком представления не миров приключений, а моделей социумов, этических и социально-политических идеалов, альтернативных существующему миру.
Жюль верн, герберт уэллс, фантастика, футурология, научно-технический романтизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149127474
IDR: 149127474 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00123
Текст научной статьи Ж. Верн и Г. Уэллс: две модели развития западного научно-технического романтизма
Представляется, что тема творчества названных авторов, Ж. Верна и Г. Уэллса, - это не только классическая и традиционная проблема «фан-тастоведения», как резонно было отмечено Е. Козьминой [Козьмина 2017, 63]. Это некий этап осмысления, в пространстве соединения филологии и философии, в котором научная философская и философско-политическая мысль через образы художественного сознания оказывается фактором изменения окружающего мира.
К анализу творчества Ж. Верна и Г. Уэллса специалисты обращались неоднократно. Только среди исследований последних лет можно выделить работы Е. Козьминой, И. Кригера, А. Никандрова, А. Яковлевой [Козьмина 2017; Кригер 2005; Никандров 2013; Яковлева 2007] и др.
Нас она в данном случае интересует несколько в ином плане: как вопрос осмысления сущности и этапов развития того, что автор ранее обозначал как политико-философский феномен научно-технического романтизма [см.: Черняховская 2018а; Черняховская 2018b; Черняховская, Коваленко 2019]. Под последним понимается особый духовно-политический феномен, которому свойственно соединение рационально и научно-технически обоснованного с идеально желаемым и который выступает как синтез трех составных: антропологического оптимизма, социального сциентизма и гуманистического технократизма. То есть приоритетным названный вопрос для нас становится именно в плане осмысления соотношений общего и художественного мировоззрений.
И в этом отношении работы Ж. Верна и Г. Уэллса могут быть рассмотрены как один из рубежей становления этого феномена в его осмыслении возможностей преобразования мира и превращения в фактор его преобразования в единстве прошлого, настоящего и будущего, начало участия в разработке духовно-идеологических основ государства в новой куль-

турно-политической обстановке.
Ее актуальность сохранялась на протяжении всего столетия. Новые образы технотронных чудес в имаджинарном сознании читателя во многом заменили образы классической мифологии. XXI век предлагает нам новую реальность, требующую также развития форм и средств разработки подобных основ. Какие образы и средства познания окажутся актуальны в новом столетии, еще предстоит анализировать.
Понять сущность таких трансформаций представляется важным для анализа состояния и перспектив развития современной литературы в целом. И, в частности, одним из важных аспектов такого исследования представляется углубление осмысления сущностного и образного содержания произведений названных авторов.
Вторая треть XIX в. знаменуется резким поворотом философской мысли к рационализму. В качестве наиболее очевидной причины такого поворота можно назвать произошедший ранее резкий скачок в естественных науках и научно-техническом развитии в целом.
Метафорическое осмысление новой реальности как раз и проводят в своих работах Ж. Верн и Г. Уэллс. Действительно, их, с одной стороны, часто рассматривают как отцов-основателей научной фантастики, с другой, видят их различие в том, что первого связывают с собственно научно-технической фантастикой, второго - с созданием фантастики философской, выдвигая тезис о «двух линиях»: линии Ж. Верна и линии Г. Уэллса. Е. Козьмина в своем увлекательном исследовании рассматривает первого как продолжателя классического авантюрно-приключенческого течения в научной фантастике [Козьмина 2017, 65], что при определенном подходе, безусловно, обоснованно.
В данном случае нам кажется оправданным представить и несколько иной угол зрения, учитывающий два обстоятельства.
Первое. Бесспорно, практически все произведения Ж. Верна включают авантюрно-приключенческое начало. Однако оно всегда несет в себе презентацию и столкновение определенных социально-модельных и социально-политических идеалов. То есть здесь авантюрно-приключенческий характер не является главным - он выступает лишь в роли художественного языка, транслирующего некие большие значения. Все работы Ж. Верна - это не миры приключений, это модели миров, социумов, во всех ключевых работах представлен не только этический, но социально-политический идеал, предлагаемый некой альтернативой существующему миру, о чем подробнее будет сказано ниже.
Второе. Ж. Верн не просто артикулирует некие желательные образы, он сам становится переводчиком вполне определенных представлений, сформированных в то время в рамках феномена научно-технического романтизма в научном виде, переводит их через художественные образы в сферу массово воспринимаемых социумом представлений.
То есть произведения Ж. Верна - это этап превращения идеалов научно-технического романтизма в реальное массовое политическое действие.
Этап развития феномена научно-технического романтизма, когда он, как сказал бы Г. Гегель, из состояния духа «в себе» переходит в состояние духа «для-себя».
Жюль Верн, с нашей точки зрения, не «автор приключений», а автор, как сказали бы Стругацкие, «приключений духа» и, если быть более точными, «приключений духа, создающего новый мир». Автор, который на этом этапе представляет направление оптимистического прогнозирования последствий научно-технических открытий.
Научно-технический романтизм Жюля Верна формирует новый тип мышления социума, включающий принципиальную веру во всемогущество науки, переходящую в веру в способность человека к научному преобразованию политической реальности. Немалое значение здесь играет и сам сформированный этический идеал благородного изгнанника-гения: любой человек, ориентированный на преобразование мира, неизбежно сталкивается с тем, что существующая реальность не принимает его. Жюль Верн закладывает латентный поведенческий образец, пригодный для противостояния обществу, как бы формулирует тезис: «Да, неприятие новых идей неизбежно, но оно будет преодолено». Здесь важен переход от романтизации того, что закончилось и уже не может быть воплощено в жизнь, к романтизации поступков человека, направленных на изменение мира.
«Лучшие романы Жюля Верна, - писал о нем Е. Брандис, - пионера научно-фантастической романтики, потому и выдержали испытание временем, что его пылкая фантастика никогда не выражалась в беспочвенную фантастику и не отрывалась от породившей ее жизненной основы» [Брандис 1955, 9]. Действительно, не только Е. Брандис, но и другие его современники [Стругацкий, Стругацкий 2001, 290] считали именно Жюля Верна основоположником течения научно-технического романтизма.
Жюль Верн ставит в фокус внимания непосредственно этический идеал ученого как человека будущего, еще не понятого современниками. Наиболее ярким представителем этого типажа становится капитан Немо, перенявший черты благородных изгнанников эпохи романтизма, но отвергнутый обществом уже не в силу простонародного происхождения или несчастной любви, как это зачастую бывало у писателей-романтиков, а как человек, бросивший вызов старому миру, поднявший восстание против самой могущественной страны на планете, один из лидеров восстания сипаев в Индии, представляющий новый человеческий типаж.
«Книга Жюля Верна “Двадцать тысяч лье под водой” воспламенила мое воображение, - вспоминает генеральный секретарь Французской коммунистической партии Морис Торез, - я был увлечен не столько приключениями капитана Немо, сколько им самим. Я видел в нем олицетворение великого гения науки, которая преобразит мир и людей, которая будет служить народу» [Торез 1950, 28-29]. В этой цитате хорошо видно, как научно-технический романтизм XIX в. переходит в новую фазу осмысления в XX в. и становится уже не узколитературным явлением (хотя было бы

неверно сказать, что он являлся таким и в XIX в.), а явлением политикофилософским. О влиянии Ж. Верна на отечественных «медийных персон» можно судить по воспоминаниям известного советского географа В.А. Обручева: «В качестве примера я могу сказать, что сделался путешественником и исследователем Азии благодаря чтению романов Жюль Верна, которые пробудили во мне интерес к естествознанию, к изучению природы далеких, малоизвестных стран» [Обручев 1939, 39-40].
Отмечает влияние Жюля Верна на свое становление и К.Э. Циолковский: «Стремление к космическим путешествиям заложено во мне известным фантазером Жюль Верном. Он пробудил работу мозга в этом направлении. Явились желания. За желаниями возникла деятельность ума. Конечно, она ни к чему бы не привела, если бы не встретила помощь со стороны науки» [Циолковский 1947, 103].
Циолковский очень точно описывает механизм влияния метафорического осмысления реальности на последующего носителя идеи: на этапе 1 возникает новая ситуация, порожденная революцией, политико-социальной или научной. На этапе 2 происходит первичное осмысление ситуации посредством метафоры, то есть выдвигается рабочая гипотеза. На этапе 3, как правило, происходит откат, консервация, но на этапе 4 воспринятая читателем метафора перерождается в научную форму. Метафора служит рабочей гипотезой, которую последующее поколение носителей идеи превращает в научное исследование. Заглядывая дальше, можно сказать, что носители идеи следующей ступени, этапа 5, воплощают ее в жизнь.
Аналогичные воспоминания о влиянии Жюля Верна можно найти у многих западных ученых XX в.: Жоржа Клода, Альберта Сантоса-Дюмона, Симона Лейка и др.
Хотя научно-технические прогнозы и приключенческие сюжеты Жюль Верна более известны, чем его социально-политические модели, именно последние, на наш взгляд, соприкасаясь с философией как таковой, в данном случае прежде всего с политической философией, участвуют в разработке духовно-идеологических основ социума.
Уже в «Таинственном острове» Жюль Верн моделирует социальный конструкт общины, преодолевающей трудности и осваивающей достижения научно-технического прогресса аналогично тому, как этот путь прошло все человечество. «Таинственный остров» в этом смысле может быть противопоставлен прежнему раннелиберальному идеалу Дэниэля Дефо: если последний показывает, как человек в одиночестве способен обустроить свою жизнь, то у Жюля Верна залогом движения вперед является содружество, единство действия, принципы общежития в котором основаны на сотрудничестве и равенстве ее участников в принятии решений. Слаженность действий создает цивилизацию, и в этом смысле можно усмотреть в концепте Жюля Верна как влияние идей Локка об общественном договоре, так и концепт социализма с его плановой экономикой.
Позднее Жюль Верн экстраполирует свою социальную модель в космос в романе «Гектор Сервадок», а затем и расширяет, конструируя уже основанное на ней общество будущего, - «Пятьсот миллионов бегумы». Важным нововведением в утопическое конструирование становится то, что герой Жюля Верна не находит «Утопию» случайным образом, а создает ее сам, построив свободный город Франсвиль. Принципиально меняется отношение к роли индивидуума в политике по сравнению с утопическим конструированием предыдущего этапа: утопия Жюля Верна антропоцентрична, причем опирается на достижения научно-технического могущества. И в этом смысле Жюль Верн наследует А. Сен-Симону и предшествует утопической модели мира «Полдня» А. и Б. Стругацких. В основе социального устройства Франсвиля - равные права его граждан на труд, отдых и участие в политической жизни. Важную роль в формировании гражданина Франсвиля играет воспитание, включающее в себя научный, этический и физический аспекты. Еще одно нововведение Жюля Верна по сравнению со всеми предыдущими утопическими конструктами и многими будущими - социум Франсвиля носит активный характер, двери города принимают всех изгнанников и революционеров.
Идеал ученого в работах Ж. Верна если не сливается, то тесно соседствует с этическим идеалом революционера, носителя социального идеала в противостоянии чуждым этому идеалу мирам, готового к борьбе ради преобразования этого мира, часто отвергнутого обществом, но готового к противостоянию и преобразованию. Два момента духовного конструкта Жюля Верна приближают его к феномену советского научно-технического романтизма 1950-60-х гг. (А. Казанцев, И. Ефремов, А. и Б. Стругацкие): значимая роль научно-технического прогресса в идеальном политическом конструкте и стремление автора к модернизации социально-политических институтов.
Наравне с оптимистическим прогнозом книги «Пятьсот миллионов бегумы» в той же работе Жюль Верн моделирует и негативный: в основе его социального устройства национальный шовинизм и наращивание вооружений, которым подчинен тот же научно-технический прогресс. Представляется, что в этом прогнозе Жюль Верн предвосхитил зарождение нацизма в Германии в 1930-х гг. То есть для него утверждение идеала добра и справедливости не детерминировано, прогресс и регресс предстают противоборствующими началами, и победа может быть обеспечена только началом противостояния и борьбы.
Он не утверждает, что его этический и социальный идеалы обречены на победу. Он утверждает, что они способны на победу, если будут способны на борьбу и на то, чтобы в этой борьбе идти до конца. Его герои часто стоят на грани поражения и гибели, и их выручает не бог из машины, а их собственная воля и твердость.
Неверно считать, что основу работ Ж. Верна составляет только научно-техническое прогнозирование в противопоставлении тому, что прогностические работы Г. Уэллса в первую очередь связаны с прогнозированием политическим.
На первый взгляд, может возникнуть ощущение, что для Ж. Верна
важны приключения человека и возможности реализации научной идеи, а для Г. Уэллса - осмысление судьбы человечества и возможности реализации философской идеи. И определенные подтверждения этому, конечно, есть. Но даже и в такой, как может показаться, научно-авантюрной книге, как «Погоня за метеоритом» или «Флаг Родины», социальное начало и принадлежность к социально принимаемой и социально-философской модели оказываются более значимыми для героев Ж. Верна, чем судьба открытия.
Романтика революционной борьбы («20 000 лье под водой», 1869), преимущества свободного труда объединившихся в коммуну людей («Таинственный остров», 1874), предсказанная военная схватка общества свободного труда и милитаристско-промышленной диктатуры («500 миллионов бегумы», 1879), экспансия олигархии США и ее плутократическая диктатура («Плавучий остров», 1895), национально-освободительная борьба («Матиас Шандор», 1885), предупреждения об угрозе использования достижений науки и техники для агрессивной экспансии олигархических элит и стремящихся к власти над миром авантюристов («Флаг Родины», 1896; «Властелин мира», 1904), угроза фашистской диктатуры с предупреждением, что победа над ней возможна лишь в союзе рабочего класса и прогрессивной интеллигенции («Необычайные приключения экспедиции Барсака», 1905) оказались художественно-политическими моделями угроз и надежд, с которыми мир встретился в XX в.
Наверное, различие между ними можно увидеть в другом: Ж. Верн скорее видит возможности позитивного утверждения предложенных ими позитивных моделей, Г. Уэллс больше опасается победы негативных сценариев.
Собственно, наверное, единственное из художественных произведений Г. Уэллса, претендующих на моделирование будущего, хотя по описанию действие романа отнесено в параллельный мир, - написанный и опубликованный в 1923 г. роман «Люди как боги», герой которого возвращается в свою реальность, наполненный верой в возможность победы в борьбе за улучшение мира. Остальные романы, действие которых так или иначе было посвящено прогнозированию и описанию будущего («Машина времени», 1895; «Война миров», 1898; «Когда спящий проснется», 1899; «Пища богов», 1904; «Война в воздухе», 1908), отчетливо пессимистичны. Хотя, с другой стороны, можно высказать и ряд контраргументов: все эти произведения написаны в течении немногим более десяти лет и примерно в то же время, когда и Жюль Верн пишет свой роман с предупреждением об угрозе грядущей фашистской диктатуры («Необычайные приключения экспедиции Барсака», 1905). А практически одновременно с «Войной в воздухе» выходит «Железная пята» Джека Лондона, предупреждающая о будущей мировой олигархической диктатуре: все эти романы оказались отражением настроений одной эпохи. С другой стороны, и роман Ж. Верна, и роман Дж. Лондона имеют оптимистическое завершение, хотя у первого оно оказалось написано его сыном уже через несколько лет после смерти самого Ж. Верна.
В то же время оптимистический роман «Люди как боги» Уэллс пишет много позднее - через 15 лет после «Войны в воздухе». И еще через 10 лет определенным завершением его прогностики становится снятый по его же сценарию «Облик грядущего», предрекающий, с одной стороны, новую тридцатилетнюю войну с гибелью цивилизации и одичанием человечества, с другой - последующее возрождение, создание всепланетной республики и выход в космос в 2036 г. Зато к 1937 г. выходит его «Рожденные звездой», в которой, с одной стороны, предсказывается духовное обновление и возрождение человечества, но, с другой, оно становится результатом не развития социума и не борьбы людей, а благотворного космического излучения...
Г. Уэллс в своих работах разрабатывает проблему противостояния двух полюсов мировой политики, воплотившуюся наиболее полно в романе «Война миров». Надо сказать, что впоследствии его работы пользовались особой популярностью на Западе в годы обострения холодной войны и многократно экранизировались.
Г. Уэллс первым из деятелей художественной футурологии составляет рационально обоснованный поэтапный прогноз развития мировой истории. Прогноз, сделанный им в романе «Машина времени», примечателен не столько своей точностью, которая, несмотря на избранный Уэллсом метафорический метод исследования, оказалась достаточно велика, сколько самой структурой. С одной стороны, он стал прообразом работ футурологов XX в., основанных уже на методах точных наук, с другой стороны, положил начало целому течению исторического прогнозирования, угасавшему и снова появлявшемуся неоднократно в ходе следующих нескольких десятков лет, породившему целый ряд «историй будущего» - от И. Ефремова до С. Переслегина.
В отличие от антиутопии утопия, или позитивная модель общества будущего, задает непосредственную цель. Мы видим подобное явление на примере наследования научно-технических идей Жюля Верна и можем перенести его и на механизм заимствования социально-политических идей. Ценность подобного прогноза - как научно-технического, так социально-политического - не в точности, а в самом факте его наличия, позволяющем следующему поколению направить свои научные разработки и практическую деятельность в соответствующее русло. Проекты обоих типов в процессе развития и переосмысления последующими поколениями могут подвергаться корректировке, как корректируется в процессе плаванья курс корабля, пока не будет достигнут изначально заданный целевой результат.
Различие между Ж. Верном и Г. Уэллсом не в большей научности или авантюрности одного либо большей философичности или психологизме другого. Оно проходит именно по шкале и мере сциентического оп-тимизма/пессимизма и некой разнице темпераментности. В центре работ Ж. Верна - человек науки, который если и не принят еще обществом, то обязательно преодолеет сопротивление социальной среды, овладеет наукой и совершит новый научный (а следом и социальный) переворот
[Брандис 1955]. В центре творчества Г. Уэллса - социально-политическое прогнозирование, как правило, основанное на проработке негативных сценариев, рисков и угроз развития человеческого общества.
Анализ взглядов и идей Г. Уэллса был проведен А.Ф. Яковлевой в ряде ее работ [Яковлева 2007]. Если она использует для анализа в первую очередь нехудожественные тексты, представленные в наследии Г. Уэллса, то и анализ его художественных прогнозов, бесспорно, обладает огромной самостоятельной значимостью.
И.Б. Кригер отмечает, что, хотя «Герберт Уэллс не был академическим философом», «ему был близок способ философствования, принятый в традиции европейского Просвещения» [Кригер 2005, 3].
А.Ф. Яковлева пишет в числе прочего, что Г. Уэллс разработал «самобытную концепцию грядущего переустройства мира» [Яковлева 2007, 3]. «Герберт Уэллс, - продолжает исследователь, - одним из первых проанализировал степень влияния научно-технического прогресса на основные общественно-политические процессы и построил на этом свою концепцию» [Яковлева 2007, 3], «попытался разработать собственную оригинальную методику политико-социального прогнозирования, применяя методы политического анализа, а также используя исторический подход для выявления главных тенденций и закономерностей общественного развития, став, таким образом, одни из родоначальников футурологии» [Яковлева 2007, 3]. «Уэллс в рамках своей оригинальной методологии связал области международных отношений и внутреннего социально-политического развития (в том числе технического) и показал их взаимосвязанность» [Яковлева 2007, 3]. С точки зрения А.Ф. Яковлевой, это позволяет видеть в нем одного из зачинателей геополитики как науки.
Ряд исследователей также отмечает, что «Герберта Уэллса, как и многих его современников, привлекал своего рода философский активизм, возможность не только объяснить, но и изменить социум» [Guerard 1924, 476-484; Becker 1935].
«В течение первой половины XX в. новая политическая сила, каковой явились интеллектуалы, проявила свою антифашистскую, либерально-социалистическую и либерально-демократическую природу, отстаивая культуру и свободу в столкновениях с фашизмом. Антивоенная деятельность интеллектуалов в годы Первой мировой войны и в межвоенные годы, а также политическая борьба с фашизмом привела к осознанию ими необходимости защиты культуры» [Никандров 2013, 16].
Оба типа научно-технического романтизма XIX в. - воплощенный в творчестве Г. Уэллса и воплощенный в творчестве Ж. Верна - наследуют идеям романтизма, включают в себя и элементы странствия, и поиски недостижимого идеала, и осмысление идеальной составляющей действительности. Тем не менее в отличие от романтизма они представляют эту идеальную составляющую обусловленной материальными условиями, в роли которых в их прогнозах выступают достижения науки и совершенствование техники, и здесь мы видим перекличку не только с рационализ- мом в целом, но и с утопическим проектом А. Сен-Симона в особенности.
Таким образом, в целом оба они - и Ж. Верн, и Г. Уэллс - едины в принятии вызова, отказываясь признавать существующий мир лучшим из миров и признавая необходимость его сущностного преобразования в соответствии с имеющимися у них социально-политическими, этическими и антропологическими идеалами. Оба они участвуют в формировании духовно-идеологических основ государства в новой культурно-политической обстановке. И оба стыкуют общую и политическую философию с художественно-литературной деятельностью.
Но разница оказывается в том, что у Ж. Верна человек практически в каждой ситуации описывается и воспринимается как способный к победе в борьбе и достойный победы в борьбе, что, кстати, роднит его все же с конструктом Д. Дефо, а у Г. Уэллса все время как бы сквозит желание победы - и предсказание поражения. Используя предложенный в свое время В.И. Тюпой образ, можно сказать, что их герои различаются в деятельностном определении своего «духовно-практического модуса личностного существования (способа присутствия “я” в мире)» [Тюпа 2004, 54].
Даже в оптимистических произведениях Г. Уэллса, там, где люди возвращают себе веру в возможность победы в борьбе («Люди как боги») или приходят к победе («Образ будущего»), их успех не есть результат их непосредственного участия в борьбе. В первом случае герой обретает веру и готовность, оказавшись в параллельном мире и увидев его успех, во втором - выйдя из борьбы и дождавшись окончания борьбы, в которой противоборствующие силы практически уничтожили друг друга.
И именно это в произведениях Ж. Верна - его установка на борьбу до конца и вера в неизбежную возможность победы - и привносит в его работы те элементы, которые при общем рассмотрении создают впечатление черт авантюрно-приключенческого романа. То есть он предлагает образный идеал, противостоящий миру, призывает к борьбе за этот идеал, его утверждение в мире и преобразование отношений в мире в соответствии с этим идеалом.
И, конечно, при определенном подходе это выглядит как авантюра. Такая же, скажем, как путешествие Колумба или полет на Луну. Просто дело для него не в проверке научной идеи, а в проверке как человека, так и его социально-политического и философско-этического идеала.
Научно-технический романтизм на Западе угасает, наверное, ко второй трети XX в., пресеченный эпохой революций и мировых войн. В последующие послевоенные годы западная художественная футурология по большей части следует путем научно-технического пессимизма. Отдельные образцы научно-технического оптимизма, представленные в западной художественной футурологии, автору исследования хотелось бы в дальнейшем рассмотреть отдельно.

Список литературы Ж. Верн и Г. Уэллс: две модели развития западного научно-технического романтизма
- Аверинцев С.С., Гоготишвили Л.А. Комментарий // Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 347-351.
- Алпатов В.М. Волошинов, Бахтин и лингвистика. М., 2005.
- Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. М., 2003.
- Библер В.С. М.М. Бахтин, или Поэтика культуры. М., 1991.
- Бонецкая Н.К. Между Логосом и Софией (Работы разных лет). М.; СПб., 2018.
- Брюсов В.Я. Литературная жизнь Франции. Научная поэзия // Русская мысль. 1909. № 6. С. 215-228.
- Брюсов В.Я. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. М., 1975.
- Давыдов В.Л. «Систематическое понятие» (заметки к истории Невельской школы) // Невельский сборник: Статьи, письма, воспоминания. Вып. 1. СПб., 1996. С. 75-88.
- Давыдов Ю.Н. «Трагедия культуры» и ответственность индивида (Г. Зим-мель и М. Бахтин) // Вопросы литературы. 1997. № 4. С. 91-125.
- Иванов В.И. Лик и личины России. Эстетика и литературная теория. М., 1995.
- Клинг О.А. Брюсов в «Весах» (к вопросу о роли Брюсова в издании журнала) // Из истории русской журналистики начала XX века. М., 1984. С. 160-186.
- Клинг О.А. Влияние литературоведения русских символистов на понимание В.М. Жирмунским поэтики как науки // Филологический класс. 2019. № 3 (57). С. 8-12.
- Клинг О.А. Влияние литературоведческого наследия русского символизма на теорию литературы 1910-х - 1920-х годов (Андрей Белый) // Филологический класс. 2018. № 1 (51). С. 7-12.
- Клюева И.В., Лисунова Л.М. М.М. Бахтин - мыслитель, педагог, человек. Саранск, 2010.
- М.М. Бахтин как философ: Сб. статей / отв. ред. Л.А. Гоготишвили, П.С. Гуревич. М., 1992.
- М.М. Бахтин: pro et contra. Личность и творчество М.М. Бахтина в оценке русской и мировой гуманитарной мысли / сост. и коммент. К.Г. Исупова. Т. 1. СПб., 2001.
- М.М. Бахтин: pro et contra. Творчество и наследие М.М. Бахтина в контексте мировой культуры / сост. и коммент. К.Г. Исупова. Т. 2. СПб., 2002.
- Махлин В.Л. Михаил Михайлович Бахтин. М., 2010.
- Николаев Н.И. Искусство и ответственность. Комментарий // Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 347-351.
- Попова И.Л. Книга М.М. Бахтина о Франсуа Рабле и ее значение для теории литературы. М., 2009.
- Сломский В. Михаил Михайлович Бахтин - философ известный и неизвестный. Брест, 2013.
- (a) Тамарченко Н.Д. «Эстетика словесного творчества» М.М. Бахтина и русская философско-филологическая традиция. М., 2011.
- (b) Тамарченко Н.Д. Поэтика Бахтина и современная рецепция его творчества // Вопросы литературы. 2011. № 1. C. 291-340.
- Emerson С. The First Hundred Years of M. Bakhtin. Princeton, 1997.
- Liapunov V Notes // Bakhtin М.М. Art and Answerability: Early Philosophical Essays. Austin, 1990. P. 2-3.
- Materializing Bakhtin. The Bakhtin Circle and Social Theory / ed. by C. Brandis and G. Tikhanov. Oxford, 2000.