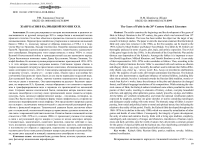Жанр басни в калмыцкой поэзии ХХ в
Автор: Ханинова Римма Михайловна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 4 (47), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается история возникновения и развития заимствованного из русской литературы XIX в. жанра басни в калмыцкой поэзии прошлого столетия. Он не был объектом и предметом отдельного исследования в калмыковедении. Пересмотрено ошибочное утверждение о появлении калмыцкой басни в 1960-е гг., поскольку первые ее образцы появились в 1930-е гг. в творчестве Муутла Эрдниева, Хасыра Сян-Белгина. Подробно проанализированы две басни М. Эрдниева в аспекте жанрового, сюжетного, тематического, художественного своеобразия. Возрождение этого жанра началось в конце 1950-х гг. после Великой Отечественной войны и тринадцатилетней ссылки калмыцкого народа. Среди баснописцев отмечены также Давид Кугультинов, Михаил Хонинов, Тимофей Бембеев. На основе изучения репрезентативных произведений 1950-1970- х гг. этих авторов сделаны следующие выводы. Собственно термин «басня» в теории калмыцкой литературы представлен понятиями, обозначающими иносказание, аллегорию («теҗг», «йогт»). Сами авторы маркировали свои произведения по-разному («теҗг», «шүвтр үг» - острое слово, «басня» (рус.) или вообще без уточнений). Большинство таких басен до сих пор не переведено на русский язык. Для калмыцкой басни, в общем, значимо влияние национального фольклора, в том числе сказок о животных. Она ориентирована на русскую басенную традицию, на творчество И.А. Крылова, отсюда обращение к его сюжетам и персонажам в трансформированном виде и переводы его произведений на калмыцкий язык. Сохраняя каноны классической басни, калмыцкие авторы вносили национальное своеобразие в поэтику своих произведений, вводя элементы истории, культуры, быта, используя афористические жанры - пословицы, поговорки, загадки. Все басни имеют стихотворную форму (чаще строфическую), сохраняя национальную версификацию в виде анафоры. Они представляют жанровые сценки или истории с включением монологической и диалогической разговорной речи, обычно с финальной моралью. Тематический диапазон басни достаточно обширен: от социальной, политической сатиры до нравственно-духовных аспектов, являя связь с современной действительностью. Развитие басни в калмыцкой поэзии относится к 1960-1970-м гг., в начале 1980-х гг. происходит угасание этого жанра в связи с актуализацией других жанров и уходом из жизни некоторых авторов. Следовательно, законченность сюжетного развития, единство действия и сжатость изложения, соприкосновение с животным эпосом, простота, однозначность и постоянство его образов и характеров, перенесение на природный мир форм человеческого быта и поведения сближают жанры классической и калмыцкой басни, являя связь традиций и новаций, национальное своеобразие и поэтику.
Калмыцкая басня, русская басня, поэтика, традиция, новации, фольклор, национальная версификация
Короткий адрес: https://sciup.org/149127116
IDR: 149127116 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00064
Текст научной статьи Жанр басни в калмыцкой поэзии ХХ в
Возвращение калмыцкого народа из сталинской ссылки в 1957 г. спо- собствовало возрождению национальной литературы после тринадцатилетнего перерыва, расширяется ее жанровый диапазон, «появляются новые жанры: баллада, элегия, басня и т.д. Заимствованные жанры, однако, не были сильно распространены» [Джамбинова, Салдусова, Ханинова 2009, 504].
Калмыцкая басня до сих пор не была объектом и предметом исследования в отечественном литературоведении. Немногие калмыцкие поэты в разное время обращались к этому трудному жанру дидактической литературы, но ни у кого из них не было отдельного сборника басен, такие произведения частично входили в авторские книги. Собственно термина «басня» в калмыковедении нет. Сами баснописцы прибегали к разным способам для обозначения избранного ими жанра, часто словом «тежг» -«иносказание» (Хасыр Сян-Белгин, Тимофей Бембеев), либо русским словом «басня» (Давид Кугультинов), либо вообще не маркировали (Муутл Эрдниев, Михаил Хонинов), либо ограничивались в подборке публикаций словосочетаниями «шувтр уг» («острое слово»), «шувтр бадгуд» («колкие куплеты»), «шулгин шувтр мерэр» («сатирической строкой»). По-калмыцки «шувтр» - едкий, колкий, язвительный.
В современном «Русско-калмыцко-монгольском словаре литературоведческих терминов» «басня» на калмыцком языке - это «йогт шулг» (иносказательное стихотворение), «баснописец» - синонимы «тсжг шулгч» (стихотворец, использующий иносказание) или «йогт зокъялч» (литератор, использующий иносказание) [Цеденова (сост.) 2012, 5]. «Иносказание» по-калмыцки - «тсжг уг, йогтлл» [Цеденова (сост.) 2012, 8]; «йогт» означает помимо понятия «иносказание» еще и «аллегория» [Цеденова (сост.) 2012, 4].
Калмыцкая басня мало переводилась на русский язык, нет ни переводных авторских сборников, ни антологии жанра. Исключением стали книжки Михаила Хонинова «Хавал-Бахвал» [Хонинов 1973] и «Как я был конокрадом» [Хонинов 1979], изданные в библиотечке журнала «Крокодил» в Москве в 1970-е гг, но и они в жанровом отношении неоднородны, включают в себя двустишия, четверостишия, сатирические стихи, рассказ.
Редкие образцы басни в калмыцкой поэзии относятся еще к 1930-м гг. Так, одна басня Муутла Эрдниева «Керсу меклэ» («Проницательная лягушка») базируется на фольклорном сюжете, встречающемся у разных народов, который мог быть известен автору в устной или письменной традиции монгольской и тибетской литератур («Черепаха и гуси»), в древнеиндийской «Панчатантре» (шестнадцатый рассказ из первой книги «Разъединение друзей») [Панчатантра 1958, 99-100]. Эрдниевская басня также близка известной сказке Всеволода Гаршина «Лягушка-путешественница» (1887) своим сюжетом: лягушка, жившая в степном водоеме, подружилась с двумя гусями, которые решили спасти ее, когда началась засуха. Гуси понесли ее на прутике бурьяна, но по пути квакушке захотелось крикнуть от радости, она выпустила изо рта прутик и упала на землю. Умирая, еле слышно промолвила: «Му кун меднэ, / Медсндэн курч чадхш» [Эрднин
1962 a, 263], т.е. о плохом человек знает, но не умеет воспользоваться этим знанием. Баснописец подытожил свое произведение традиционной моралью: «Меклэн келен уг / Мецк улгурт хуврж. / Медсндэн курдго кууг / Мууд тоолдг болж» [Эрднин 1962 а, 263], что значит: «эти лягушкины слова превратились в пословицу Человека, не пользующегося своим знанием, считают глупцом, простаком». В отличие от гаршинской квакушки степная жительница не сама придумала особый способ для полета (это был один из гусей), но мудрость открылась ей перед смертью, причиной которой стала ее собственная неосторожность. Лягушка знала, что нельзя кричать от радости, если хочешь жить, но не удержалась, как черепаха во французской басне Жана де Лафонтена «Черепаха и две Утки»: та возгордилась, что люди приняли ее за царицу черепах. Героиню же сказки Гаршина происшествие ничему не научило: счастливо уцелев после падения в пруд, она продолжала хвастаться тем, чего не было, сказав также, что пробудет у местных лягушек до весны, пока не вернутся ее утки, которых она отпустила [Гаршин 1986, 11].
Для калмыцкой басни, в общем, значимо влияние национального фольклора, в том числе сказок о животных, пословиц, поговорок, загадок. Так, в основе другой басни М. Эрдниева «Ус узлго - hoc тээлдго» [Эрднин 1962 Ь, 264] («Не видя воды - не снимают сапоги») лежит калмыцкая пословица на тему обдуманности поступков, осмотрительности: «Ус узл уга Носан бичэ тээл. Не видя воды, не снимай сапоги» [Пословицы, поговорки и загадки... 2007, 374]. Подзаголовок обозначен в скобках «(Улгурин ту-скар нанд евгнэ келен тууя?)», автор подчеркнул, что эту историю на тему пословицы рассказал ему старик. В то же время есть разница между двумя сюжетами - народного предания и эрдниевской басни [Мифы, легенды и предания калмыков 2017, 140-141]. Так транслируется взаимосвязь народной вековой мудрости и реальной жизни.
Как и предыдущая, эта басня также состоит из строф (там 14 катренов, здесь 11 строф с некоторыми четверостишиями в виде «лесенки»). Сюжет основан на мотиве опрометчивого проступка молодого пастуха, убившего ласточку, которая, выбив из его рук веточку с водой, дважды не дала ему напиться якобы из горного родника. Жаждущий человек в ярости убил птицу длинным кнутом, зарыл ее, а потом задумался, в чем дело. Поднявшись повыше, он вздрогнул, увидев, что там нет никакого родника. Свирепая в своей злости змея источала яд, и если бы юноша выпил, то умер. Ласточка защищала его от гибели. Как и в первом произведении, финал манифестирует пословицу. Персонаж, поняв свою ошибку (принял друга за врага и убил его), сказал: «Ус узлго - hoc тээлдго» [Эрднин 1962 Ь, 264] («Не видя воды - не снимают сапоги»). Здесь автор также вынес мораль в конец басни, отделив от основного текста «звездочками»: «Укрч кевунэ уг / Уинь бээсн лавта. / Улгурин унн-чинрнь / Одачн бээЬэ зевтэ» [Эрднин 1962 Ь, 264]. Т.е. «слова пастуха подтвердили правду. Смысл этой пословицы до сих пор сохраняет свою суть». Баснописец заканчивает свои размышления обязательным поучением: «Урдаснь ухалчкад кесн / уулдврт /
Энду - алдг ховр Нардг. / Иньгиг ешэтнэс йилйж; / чадлЬн / Эркн чинртэ тер болдг» [Эрднин 1962 Ь, 263]. Иначе говоря: «преждевременно подумав, совершил проступок, ошибочное преступление. Неумение отличить друга от врага чревато большой проблемой».
Подобный мотив встречается в фольклоре, в частности сказочном жанре. Как отмечено М. Гаспаровым, повествовательной частью басня сближается со сказками (особенно животными сказками), новеллами, анекдотами; моралистической частью - с пословицами и сентенциями; один и тот же материал свободно перетекает между басней и этими смежными жанрами [Гаспаров 2001, 74].
Вторая басня М. Эрдниева начинается сказочным зачином: «Кезэнэ нег цагт бээяу / Кесг жил урд бээя<...» [Эрднин 1962 Ь, 263]. Дословно: «Это было давно. / Много лет назад было...». В структурном отношении история, рассказанная стариком, передана вступлением, изложением в основной части события с участием молодого пастуха, ласточки и змеи, в финальной части - монологической речью главного персонажа с введением пословичного элемента; в конце есть краткое резюме басни, «раскрывающее ее замысел и называемое “моралью”» [Квятковский 1966, 57]. Та же схема представлена и в первой басне поэта, явившей в аллегорической форме человеческие поступки. Поэтому последние слова лягушки-путешественницы в пословичном виде отсылают именно к человеку.
Великая Отечественная война, затем многолетняя ссылка прервали развитие жанра басни в калмыцкой литературе. Возвращение к этому нравоучительному произведению наблюдаем в поэзии Давида Кугульти-нова, Хасыра Сян-Белгина, Тимофея Бембеева, Михаила Хонинова конца 1950-х гг. Три басни Кугультинова представлены в его сборнике «ЖирИл» («Жизнь», 1960). В жанровом отношении они обозначены в скобках русским термином «басня». Первая из них под названием «ШорИлжиа нут-гин тарлйн» (дословно «Разрушение муравьиной страны»), написанная в 1956 г, являет собой политическую сатиру. Прилегший в степи отдохнуть после работы мужчина не заметил, что у его ног был муравейник. Стражники тревожно доложили своему хану, что рядом враг. Тот известил своих подданных, что к любимой родине приблизился завоеватель. Старый муравей предупредил разгорячившихся воинов, что война всегда опасна, надо узнать, что думает человек, надо различать врага. Но большинство шумно решило готовиться к войне. Передовые солдаты в жажде славы залезли в один сапог и укусили человека. Мужчина, вскочив, раздавил этих шестерых муравьев, а увидев муравейник, разрушил его с бранью, догнав бежавших оттуда обитателей. Автор завершил басню моралью: «Делкэн бээдл хэлэхинь / Дээшрхсн шорйлящ олн. / Оскэн чидл маднд / Оньдин теднд бели» [Кеглтин 1960, 139]. В смысловом переводе: «Если посмотреть вокруг, / На свете много воинствующих муравьев. / Но для них всегда у нас / Наготове сила в ногах» (буквально: в пятках; ескэ - пятка).
Жанровая сценка этой басни актуализирована диалогами жителей подземной страны - стражников, хана, известного воина, грозящегося рас-62
правиться с любым, кто нападет на родину, мудрого старика, предводителя передового войска, а также в контексте бранью укушенного человека.
Во второй басне «Такан аяфйс» («Петухи», 1957), продолжая тему войны, поэт развивает ее, изображая борьбу за власть молодого петуха со старым. Среднего возраста петухи вначале были сторонними наблюдателями поединка, но когда старик стал одерживать вверх над молодым, один из любопытствующих стал кричать поверженному, что у него ума нет, если он хотел исправить старца, и призвал всех добить падшего. Когда же настанет иное время, оправдывая себя, он будет провоцировать убийство старого петуха. В конце басни автор прямо сформулировал итоговую мораль: «Диилсн талагшан татдг / Дундин такан аяфйс, / Хая, эмтн заагт, / Холас би узнэв» [Кеглтин 1960, 141]. Дословно: «Таких петухов-середнячков, принимающих сторону победителей, изредка среди людей я узнаю издалека». Так, схематические образы птиц иллюстрируют подобное житейское поведение людей, что поэт и подчеркнул своим нравоучением, социальной сатирой.
В третьей басне «Халвц шовун болн меклэ» («Соловей и лягушка», 1957) вновь с помощью образов представителей животного мира автор подводит читателя к проблеме восприятия жизни в ее высоком или низком понимании. Соловей как аллегория искусства (пения) противопоставлен лягушке-обывательнице, живущей в прудовой грязи и считающей, что настоящая жизнь только здесь. Поэтому она возразила птице, воспевающей небо, солнце, цветы, земную красоту, и призвала славить мелодией ятхи свое место обитания: «Ятхин дууйар магтгдх / Иоси жирЬл энд» [Кеглтин 1960, 142]. Такой деталью - калмыцким музыкальным инструментом -произведению придается национальный колорит. Здесь автор отступает от канонического завершения басни, поскольку однозначность ее персонажей очевидна, как и их диалог. Время действия в этом случае конкретизировано (весна), как и во второй басне (осень), пространство локализировано (пруд, деревья), как в первой (степь, муравейник) и второй басне (курятник и его окрестности). Три произведения Кугультинова, таким образом, демонстрируют политическую и социальную сатиру.
В двух баснях X. Сян-Белгина «Ямрхг Серк» (1957) и «Керэ Наха хойр» (1959) персонажами стали высокомерный козел-кастрат, противопоставляющий себя верблюду, коню и корове, а также ворона со свиньей. Содержание второй басни поясняет эпиграф из калмыцкой пословицы: «Ноха угад / Наха хуцна» [Сян-Белгин 1963, 118], что означает: «в отсутствии собаки и свинья лает». Во вступлении автор подчеркнул, что испросил поддержки в написании этой басни у великого русского баснописца Крылова с его находчивым языком: «Орс алдр тежгч - / ОлмНа келтэ Крыловас, / Эки ишлвр сурж; / Эн тежгэп бичсэ» [Сян-Белгин 1963, 118].
Одной из характерных особенностей калмыцкой басни является ее обращение в большей степени к русской классической сатирической традиции - к басенному творчеству И.А. Крылова, нежели к античному (Эзоп) или французскому (Ж. де Лафонтен) наследию. В 1960 г. появилась жур- нальная подборка его известных басен в переводе Санжары Байдыева: «Ворона и Лисица», «Обезьяна и очки», «Лебедь, Рак и Щука», «Слон и Моська» и др. [Крылов 1960, 197-203]. В 2012 г. вышло отдельное калмыцкое издание переводов русского баснописца с параллельными текстами [Канкаев 2012].
Хрестоматийная басня И. Крылова «Стрекоза и Муравей» имеет аналог в сказочном фольклоре («Муравей и ленивый сверчок (стрекоза)»), в том числе и в калмыцкой народной сказке «Меклэ шорЬлжи хойр» («Лягушка и муравей»). Муравей, пожурив и пожалев все-таки беззаботную лягушку-подружку предложил ей пропитание на зиму, дав из своих запасов ножку кузнечика. Это обидело лягушку, увидевшую и в малом подарке насмешку над собой, и с тех пор они перестали дружить [Меклэ шорЬлжи хойр... 1961, 120].
Среди басен Тимофея Бембеева есть «Колс haphc гийэд...» («Пролей пот...», 1966) - своего рода перекличка с указанной крыловской басней. Стрекоза веселилась допьяна, упав в снег, тяжело заболела и позвала врача Муравья. Когда тот рекомендовал ей пить калмыцкий чай, чтобы хорошо пропотеть и вылечиться, больная посоветовала ему не жалеть спирта, чтобы сделать ей растирания, а также немного принять и внутрь. Врач возразил, что дело не в этом: «Келен хара Наршго. / Кедлснь хееннь... торшго!» [Бембин 1970, 102]. В смысловом переводе: «Пот зря не выходит. Только после труда... не задерживается». Концовкой басни стала сентенция персонажа, передающая отношение к безделью и легкомыслию и призыв к труду
Первые двенадцать басен Т. Бембеева вошли в его первую книгу «Зеер» («Сокровище», 1960) вторым разделом. В статье «Этапы становления и развития калмыцкой художественной литературы» (1962) Морхаджи Нармаев писал: «Т. Бембеев - баснописец. В его баснях новые, местные образы - “Цар“ (“Вол“), (“Буур болн ботхн“) “Буура и верблюжонок", “Мергч укр“ (“Бодливая корова“) и другие. Для калмыцкой литературы -это новый, жизненно необходимый жанр. Творческая работа Бембеева в этой области довольно плодотворна» [Нармаев 1962, 26]. Здесь тогдашний председатель Союза писателей Калмыкии также ошибочно относит появление жанра калмыцкой басни к позднему периоду, а не к тридцатым годам прошлого века. Так, одна из басен X. Сян-Белгина «Темэн яман хойр» («Верблюд и козел») создана еще в 1934 г.
Из нескольких басен Михаила Хонинова о лисе басня «Арат колхозд» («Лиса в колхозе», 1973) [Хоньна 1973, 2] - социальная сатира, отразившая некоторые реалии советской действительности: хищение социалистической собственности, халатность, бездеятельность. Сюжет этой басни о Баране, председателе колхоза, и Лисе, подрядившейся дорого отремонтировать пять кошар, съевшей всех гусей на ферме и скрывшейся потом с авансом, также созвучен с сюжетом крыловской басни «Лиса-строитель». Там Льву рекомендовали Лису как мастерицу, а та, построив курятник, оставила себе для добычи лазейку, где и попалась [Крылов 1969, I, 155-
-
157] . Обе басни не имеют в конце морали: она очевидна с таким главным персонажем, способным на любую хитрость в достижении цели.
Среди героев басен М. Хонинова есть как люди, так и звери, домашние и дикие. Поэт использовал говорящие имена и фамилии. Например, в басне о председателе колхоза «Хавал» [Хоньна 1974, 125-127], что означает «пустослов». В переводе под названием «Хавал-бахвал» Андреем Внуковым уточнено: «Калмыцкий хавал - это русский бахвал» [Хонинов 1973, 19]. В басне «Худлчнрла дэ кехм» («Дадим бой обманщикам») автор объединил калмыцкие и русские имена и фамилии, указывая на обобщение: директор совхоза Сян Брихунов (хороший брехун), счетовод Темэн Крикунов (верблюд-крикун), а также рабочком Бор Соктуев (крепкий пьяница). Призывая дать бой лжи и обману, автор, написав стихотворение, отправился степной дорогой с ревизором к Брихунову: «Худл, меклэ дэ кехэр / Хоньна Михаилас шулг терв. / Турулэд Брихуновд курхэр / теегин хаалЬд бурткэчтэ Нарв» [Хоньна 1974, 147]. Сам поэт был спецкорреспондентом журнала «Крокодил», печатая не только стихи, но и фельетоны.
Развитие басни в калмыцкой поэзии пришлось на 1960-1970-е гг, с начала 1980-х гг. этот жанр пошел на спад в связи с активным переключением писателей на другие жанры и уходом в разное время из жизни некоторых авторов-баснописцев (М. Эрдниев, X. Сян-Белгин, М. Хонинов).
Как уже было сказано, калмыцкие поэты по-разному маркировали жанровую принадлежность своих произведений: «тежг» (иносказание), «шувтр уг» (острое слово), «басня», иногда обходились без прямого определения. Для калмыцкой басни, с одной стороны, характерно преимущественное обращение к национальному фольклору, с другой стороны - к русской басенной традиции, прежде всего крыловской (Т. Бембеев, М. Хонинов). Включение пословиц, поговорок в название, в эпиграф, в текст басен, сюжетно развернутое, определяло связь с афористической мудростью народа, иллюстрировало дидактический аспект, раскрывало образы и характеры персонажей - людей и зверей (М. Эрдниев, X. Сян-Белгин). Обращение к народной и литературной сказке способствовало творческой трансформации известных ситуаций, конфликтов, объясняло введение экзотических (слона, льва, барса) и иных зверей (сайгака, волка, медведя, зайца, лягушку), а также домашних животных (верблюда, ишака, козла, коня, коровы и др.). Сатирическая направленность басен советского периода демонстрировала реалии повседневной жизни, критику бюрократизма, хищения, обмана, разгильдяйства, карьеризма. «Интересна в этом плане, - пишет Д.Т. Чиров о М. Хонинове в одной из глав своей книги, - басня “Сайгак-прыгун”, хлестко бьющая по бездумным прыгунам, в упоении властью теряющих чувство долга перед теми, о ком они обязаны проявлять неустанную заботу, кому должны служить по совести и чести» [Чиров 2007, 71].
Немногие политические басни (например, «Разрушение муравьиной страны» Д. Кугультинова, «Трубадуры-пожарники» М. Хонинова) актуализировали международные темы. Ряд басен определялся литературной

средой: взаимоотношения с редактором, соперничество маститых и начинающих литераторов, плагиат (например, «Верблюд и верблюжонок» Т. Бембеева, «Литературный конокрад» М. Хонинова). В композиционной структуре авторы соблюдали обычно традиционные элементы введения, основной части, морализаторской концовки, в том числе и без прямого вывода. По форме басни представляли собой как жанровые сценки, так и истории с включением монолога и диалогов. Художественно-изобразительные средства были ориентированы на фольклор (эпитеты, сравнения, фразеологизмы, разговорная лексика). Все басни написаны разными стихотворными размерами, со строфической разбивкой или сплошным текстом, с соблюдением особенностей национальной версификации, прежде всего анафоры.
Законченность сюжетного развития, единство действия и сжатость изложения, соприкосновение с животным эпосом, простота, однозначность и постоянство его характеров, перенесение на природный мир форм человеческого быта и поведения, отмеченные Ю. Орлицким [Орлицкий 2008, 30], сближают жанры классической и калмыцкой басни, являя связь традиций и новаций, национальное своеобразие и поэтику.
Например, в басне Д. Кугультинова прямо не говорится о сапогах мужчины, разрушившего муравейник, но подразумевается, что он их подошвами раздавил насекомых, укусивших его в ногу. Особенностью калмыцких мужских сапог были нашиваемые подошвы [Шараева 2017, 48], которые придавали обуви прочность. В басне Т. Бембеева муравей-врач советует простывшей стрекозе выпить калмыцкого чая - джомбу, чтобы вылечиться. Одна из калмыцких легенд связана с обрядовым праздником Зул, ассоциирующимся у калмыков с Новым годом и ритуалом продления жизни. Больному Зонкаве мудрец, открыв священное писание, сказал, что победить болезнь ему поможет божественный напиток - калмыцкий чай; так и случилось [Борджанова 2007, 310].
Таким образом, появление и развитие заимствованного жанра басни в калмыцкой поэзии прошлого столетия свидетельствует также о русско-калмыцких литературных связях.
Список литературы Жанр басни в калмыцкой поэзии ХХ в
- Борджанова Т.Г. Обрядовая поэзия калмыков (система жанров, поэтика). Элиста, 2007.
- Гаршин В.М. Лягушка-путешественница: сказка. М., 1986.
- Гаспаров М.Л. Басня//Литературная энциклопедия терминов и понятий/под ред. А.Н. Николюкина. М., 2001. Стлб. 73-74.
- Джамбинова Р.А., Салдусова А.Г., Ханинова Р.М. Литература//История Калмыкии с древнейших времен до наших дней: в 3 т. Т. 3. Элиста, 2009. С. 492-528.
- Квятковский А.П. Басня//Квятковский А.П. Поэтический словарь. М., 1966. С. 57-58.
- Крылов И.А. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1969.
- Мифы, легенды и предания калмыков. М., 2017.
- Нармаев М.Б. Этапы становления и развития калмыцкой литературы//Калмыцкая художественная литература на подъеме. Элиста, 1962. С. 15-29.
- Орлицкий Ю.Б. Басня//Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 30.
- Панчатантра/пер. с санскрита и примеч. А.Я. Сыркина. М., 1958.
- Пословицы, поговорки и загадки калмыков России и ойратов Китая/сост., пер. Б.Х. Тодаевой. Элиста, 2007.
- Хонинов М.В. Как я был конокрадом: стихи, рассказ. М., 1979.
- Хонинов М.В. Хавал-Бахвал: стихи. М., 1973.
- Цеденова С.Н. (сост.). Русско-калмыцко-монгольский словарь литературоведческих терминов. Элиста, 2012.
- Чиров Д.Т. Грани любви. Творческий портрет Михаила Хонинова. Элиста, 2007.
- Шараева Т.И. Этнические маркеры калмыков: исследование и материалы. Элиста, 2017.
- Бембин Т. Аршан болн хорн: шүлгүд. Элст, 1970.
- Канкаев Э.П. И.А. Крыловин теҗгүд хальмгар = Басни И.А. Крылова на калмыцком языке/пер. с рус. Э. Канкаев. Элиста, 2012.
- Кɵглтин Д. Җирһл: шүлгүд болн поэмс. Элст, 1960.
- Крылов И.А. Керǝ болн арат. Сар мɵчн болн козлдур. Цаяха хун цурх һурвн. Чон болн тоһрун. Уут. Зан болн моська. Цар болн меклǝ//Теегин герл. 1960. № 8. Х. 197-203.
- Меклǝ шорһлҗн хойр//Хальмг туульс. 1-гч боть. Элиста, 1961.
- Сян-Белгин Х. Нарни урһцла: шүлгүд болн поэмс. Элст, 1963.
- Хоньна М. Арат колхозд//Хальмг үнн. 1973. Октябрин 16. Х. 2.
- Хоньна М. Хавал//Хоньна М. Эцкин һазр: суңһсн шүлгүд болн поэмс. Элст, 1974. Х. 125-127.
- Хоньна М. Худлчнрла дǝ кехм//Хоньна М. Эцкин һазр: суңһсн шүлгүд болн поэмс. Элст, 1974. Х. 145-147.
- Миронов А.С. Концепт силы в системе ценностей русской былины//Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2017. № 2 (23). С. 35-49.
- Эрднин М. Керсү меклǝ//Хальмг поэзин антолог. Элст, 1962. Х. 263-264.