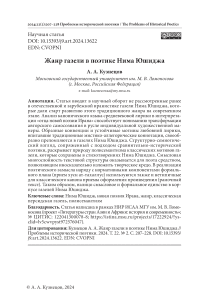Жанр газели в поэтике Нима Юшиджа
Автор: Кузнецов А.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья вводит в научный оборот не рассмотренные ранее в отечественной и зарубежной иранистике газели Нима Юшиджа, которые дали старт развитию этого традиционного жанра на современном этапе. Анализ канонического языка средневековой лирики в интерпретации «отца новой поэзии Ирана» способствует пониманию трансформации авторского самосознания в русле индивидуальной художественной манеры. Образные конвенции и устойчивые мотивы любовной лирики, впитавшие традиционные мистико-аллегорические коннотации, своеобразно преломляются в газелях Нима Юшиджа. Структурно-семиотический взгляд, сопряженный с подходом сравнительно-исторической поэтики, раскрывает природу полисемантизма классических мотивов газели, которые сохранены в стихотворениях Нима Юшиджа. Смысловая многослойность текстовой структуры оказывается для поэта средством, позволяющим иносказательно изложить творческое кредо. В реализации поэтического замысла наряду с нормативными компонентами формального плана (прием хусн ат-тахаллус) используются также и нетипичные для классического канона приемы оформления произведения (рамочный текст). Таким образом, налицо смысловое и формальное единство в корпусе газелей Нима Юшиджа.
Нима юшидж, новая поэзия ирана, жанр, классическая персидская газель, полисемантизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147243783
IDR: 147243783 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.13622
Текст научной статьи Жанр газели в поэтике Нима Юшиджа
Т ворчество Ним а́ Юш и́ джа (1897–1960, наст. имя — ‘Ал и́
Эсфандияр и́ ) является важнейшей вехой в истории литературы Ирана. Его экспериментаторская манера письма породила целое направление, получившее название «новая поэзия» (“ še‘r-e now ”). Нима Юшидж, известный авангардистскими устремлениями, свойственными индивидуальнотворческому художественному сознанию1, не отказался от сочинения стихов в классической форме. Мастерство поэта в этой области было отмечено некоторыми иранскими литераторами и учеными (см., например: [Дженнати-Этаи: 5], [Тараби: 21–111], [Тахбаз: 175–179], [Пурнамдариян: 37–38]).
Хотя в корпусе произведений Нима Юшиджа стихотворения в классической форме по количеству значительно уступают иным разновидностям стиха (написанным строфикой или «свободным ‘ арузом »2), обозначенная область творчества «отца новой поэзии» не должна быть проигнорирована исследователем, тем более что в отечественной и зарубежной иранистике эта часть наследия Нима Юшиджа ( газели, касыды, руба‘и и др.) не изучалась.
Настоящая статья посвящена рассмотрению художественных особенностей классических газелей3, сложенных поэтом- новатором4. Анализ этих произведений поэта, с одной стороны, обнаружит преемственность творчества Нима Юшиджа по отношению к богатому наследию прошлого, с другой — выявит своеобразие его художественных решений в рамках классического жанра, сохраняющего актуальность и поныне. Научная новизна настоящего исследования связана с таким явлением персидской поэзии XX–XXI вв., как посттрадиционная «современная газель» (ğazal-e mo‘āser). Творческий опыт Нима Юшиджа чрезвычайно важен для дальнейшего хода развития данного жанра в современной поэзии Ирана.
В семантическом ядре газелей заложен широкий спектр образов и мотивов любовной лирики, переживших в ходе развития газели череду аллегорических переосмыслений [Пригарина, Чалисова, Русанов, 2024а: 10, 35, 42]. Совокупность этих смысловых граней сводится к следующим традиционным мотивам классической газельной лирики: плен разлуки; своенравность и жестокость возлюбленной; любовное страдание; жертвенность и преданность влюбленного; непостижимая тайна любви; превратности судьбы влюбленного; обретение счастья любви как пробуждение ото сна. Лексические и образные пересечения создают некое смысловое единство всех пяти текстов, что и дает возможность охарактеризовать их как своеобразный цикл.
«Тяга к клетке»: герой между неволей и свободой
Переживания лирического героя в газелях Нима Юшиджа сконцентрированы вокруг ощущения несвободы и безысходности. Таково состояние влюбленного, не находящего отклика в сердце избранницы. Герой сталкивается не столько с физической (пространственно-временной), сколько с эмоциональной дистанцией между собой и объектом страсти. Болезненная одержимость любовью воплощена у Нима Юшиджа прежде всего в классическом образе клетки. Именно лексема «клетка» (“qafas”) служит редифом5 в первой6 его газели:
«Я настолько взволнован воспоминаниями в плену клетки 7 ,
И все, что приходит мне в голову, — это тяга к клетке » (869).
Любовное заточение представлено двумя противоположными и в то же время взаимосвязанными эмоциональными порывами: с одной стороны, узник клетки, утративший драгоценную свободу, испытывает тоску из-за давящей со всех сторон тесноты, с другой — поддается опьяняющей эйфории любви:
«От тоски мои губы не могут и шевельнуться —
Сжали меня в объятиях [прутья] тесной клетки . <…> Сердце мое из-за страданий поселилось там с первого дня, А сейчас на меня все сильнее сверху давит клетка .
Время долгой разлуки никак я не могу измерить,
Ведь я пьян до исступления под жестоким натиском клетки » (869).
Сходный мотив можно найти в газелях Амира Хусрава Дихлави (1253–1325). Приведем характерный пример:
«Как сладостно рыдает от любви Хусрав, Словно соловей в клетке весенней порой» 8 .
Тоска по возлюбленной, которой томим лирический герой, отражена и в других традиционных мотивах. В третьей газели это состояние описано через традиционные метафоры сгорания в огне и болезни (лихорадки), охвативших страдающее сердце. Примечателен при этом классический образ свечи, в пламени которой в соответствии с классическим каноном сгорает мотылек:
«Не я разжег огонь , я болен тобою,
Ты разжигала [пламя], благо, что не видишь, как я пылаю . Нет смерти, от которой бы не произошла истинная жизнь, Свеча смеется над тем, что я сгораю » (870).
Чувства героя, сгорающего в огне несчастной любви, противоречивы: он охвачен печалью ночи, но надеется с улыбкой встретить утро. Состояние его описано как болезненный полусон, неотличимый от бессонницы:
«Всю ночь я в печали о том, что родит мой день,
Когда день постучится ко мне в дверь, я сгорю от ночной печали . Я подобен утру , губы не лишены улыбки, однако, словно ночь , Темноту я коплю в опечаленном сердце » (870).
Близкое сочетание мотивов можно найти в газели Санаи (ок. 1081–1141):
«Когда в моем сердце любовь к той красавице разжигает пламя , Знаю, к моим ресницам она привязывает жемчужные ожерелья. Приходит она во все ночи разлуки к моему изголовью и стучит [в дверь],
Приходит она каждую ночь для того, чтобы отгонять от моих глаз сон»9.
«Подруга Нима»: своенравная возлюбленная и преданный влюбленный
«Портрет» возлюбленной складывается из отдельных штрихов, представленных в разных газелях Нима.
В первой газели классический образ цветущей весны создает эффект нарушенного ожидания. Лирический герой, очарованный пением птички, вероломно завлечен ею в ловушку. Примечательно, что за образом певчей птицы, прилетевшей в сад, скрыта возлюбленная, хотя в классических текстах соловей, стремящийся к прекрасной розе, как правило, обозначает именно влюбленного. У Нима персонажи газели оказываются будто бы двумя птицами, одна из которых порхает на свободе, а другая — томится в клетке:
«Пришла весна , расцвел куст розы , [прилетела] птичка в сад, Зазвенела [ее] страстная трель , а я [попал] в ловушку клетки. Улетела ты от меня, птичка , и не спросила о том,
Каково мне, если вольное сердце покорилось клетке» (869).
Во второй и пятой газелях герой сетует на то, что красота обитательницы цветущего сада обернулась обманом:
«В углу клетки меня опалила тоска : зачем же
Явила свой лик весна , и сад — впереди?» (871).
И в то же время он не в силах оторваться от ее образа, вновь стремится вызвать его в своем воображении:
«Как мне в тоске разлуки вызвать в памяти твое лицо,
Если не любоваться розами , тюльпанами и нарциссами ?» (871).
В тех же газелях возлюбленная также облечена в каноническую маску луноликой красавицы, похищающей сердце:
« Подруга моей разлуки и та луна , похитившая сердце — впереди, Израненное тело как поладит с тем миром, что впереди?» (869).
Или:
«Хотя сердце заключило со мной договор и сказало: "Этого делать не буду",
Не проходит и мгновенья, чтобы в сердце я тебя, серебристую , не вспоминал» (871).
Во второй газели измученному герою приходится молить жестокую возлюбленную о милости, ведь ее благосклонность сулит не только блага, но и сохраняет саму жизнь. Его чувства пытается поколебать соперник ( harif )10, однако герой не верит его лукавым словам:
«Поскольку у тебя — жизнь и блага , сжалься , о луна , [Иначе] жизнь и блага не обеспечены [мне] впереди. Я ушел оттуда, где соперник ( harif ) говорил мне свои слова, Как прекрасно, что не сомневающаяся [во мне] подруга [ждет] впереди» (869).
В конце концов подруга оценивает силу любви героя, и тот воссоединяется со своенравной красавицей. Преодолев ее непокорность, влюбленный заново обретает душевную гармонию, хотя она остается при своем мнении. Им овладевает чувство сладостной радости, выраженное в таких строках:
«Вчера она пришла в мои объятия, взгляни, как смиренна, Хотя и повторяла: "На несчастного не взгляну".
Я сказал: "[Это] от горечи тоски она сказала", но лучше, Мне не прислушиваться к этим напрасным увещеваниям. <…> Я ей сказал, что память о ее лице сделала мою радость еще слаще,
Сказала она: "Как мне быть, свою радость мне не сделать слаще"» (871).
Классический тип возлюбленной, равно как и тип влюбленного, унаследованный от классики, благодаря элементам психологизма обнаруживает тенденцию трансформироваться в литературный характер. Динамический портрет возлюбленной позволяет говорить о своеобразной эволюции этого лирического персонажа внутри цикла. Стоит отметить, что образ благосклонной возлюбленной встречается в классической газели довольно редко. Он, как правило, привязан к стандартной лирической ситуации счастливого свидания, знаменующего в суфийской11 интерпретации достижение мистиком спонтанного озарения, что и использует Нима. Она ярко представлена в одной из газелей у Анвари (род. ок. 1115), начинающейся словами «Под вечер явилась опьяненная к моим дверям та полная луна…»:
«Хотя у меня и раньше были прекрасные ночи свиданий , Вчерашняя ночь была иного рода. <…>
Никто не ведает , что это было за светило , И я не знаю , что это была за звезда .
Пока на небосводе утро не явило свой лик, Анвари был вровень с небосводом » 12 .
Любовное страдание побуждает героя к размышлениям о превратностях судьбы, и об этом в третьей и пятой газелях с ним ведет беседу возлюбленная. Ее речи загадочны, герою предстоит понять смысл намеков, чтобы обратиться к своей давней сказочной мечте ( afsāne ):
«Ты сказала, превратностей не бывает без тревог мирских, Ты намекала на это, что стало для меня загадкой . <…> Небосвод — мельничный жернов, а мы в нем пылинки [муки], Разве он забудет свой обычай мучить и притеснять ?
Обычай нарушения договора — вот договор, что с нами был заключен,
Отчего же мне тогда не обратиться к старой сказке ( Afsāne ) 13 ?» (870–871).
«Я сочинил, проснувшись…»: тайна любви
Среди газелей Нима Юшиджа выделяется одна, помеченная точной датой (ночь 4 месяца мордад 1317 г. / 26 июля 1938 г.). Газель примечательна тем, что в ней присутствует нехарактерный для средневековой традиции рамочный текст14 вокруг первого бейта :
« Я сложил во сне :
Года таили темную беду на пути к моей цели ,
Счастье подкралось из-за угла и так удачно угодило мне в руки.
Остальное я сочинил , проснувшись :
Птица радости была в тревоге , но обрела покой ,
Я утонул в страсти и потерял себя на равнине восторга» (870).
Зачином данной газели служит стандартный мотив счастливого пробуждения. Лирический субъект, пребывавший в тревожном сне, проснувшись, испытывает воодушевление и предчувствует перемену к лучшему. Примечательно, что этот мотив выражен не только лишь внутри двух приведенных бейтов , но и вне их, в рамке, что демонстрирует в том числе и тенденцию к преодолению нормативной смысловой замкнутости бейта . Добавление рамочного текста к структуре классической газели можно считать прямым авторским нововведением. Этот признак выделяет данную газель , и потому ее можно воспринять как своего рода «смысловой ключ» к остальным четырем.
Мотив бейта, открывающего стихотворение, отчасти перекликается с началом газели Мухаммада Шамс ад-Дина Хафиза Ширази (ум. 1389), известной среди иранистов как газель «о ниспослании поэтического дара»15.
«Минувшей ночью в пору рассвета избавление ( nejāt ) от скорби мне дали
И — во мраке ночи живую воду ( āb-e hayāt ) мне дали!» 16
Текст Хафиза насыщен отсылками к пророческим историям Корана и суфийскому поэтическому дискурсу: šab-e qadr «Ночь ниспослания Корана пророку Мухаммеду», hātef «глас свыше», zakāt «милостыня», sabr «терпение»17, tajallā «богоявление» и т. п. Образ же сахарного леденца ( šāx-e nabāt , букв . «веточка деревца»), которым герой был награжден за стойкость и терпение, трактуется исследователями и как имя его предполагаемой возлюбленной, и как метафора сладости поэтической речи [Пригарина, Чалисова, Русанов, 2024b: 447–448]. В сумме коннотаций Хафиз не только связывает воедино любовь красавицы и совершенство стиха, но и приравнивает поэтическое слово к пророческому откровению:
«Сколь благословенно было то утро , и как славна ночь , Та Ночь предопределения ( šab-e qadr ), когда эту новую расписку ( barāt ) 18 мне дали!
Если я счастлив и радостен — что удивительного,
Я был нуждающимся ( mostahaqq ), и все это как милостыню ( zakāt ) мне дали.
Посланец ( hātef ) в тот день принес мне добрую весть ( možde ) об этом счастье,
Ведь для тех мук и страданий терпенье ( sabr ) и стойкость мне дали.
Все эти мед и сахар , что струятся из моих речей , —
Награда терпению ( sabr ), за которое ветку набата ( šāx-e nabāt ) мне дали» 19 .
Пробудившись вдохновленным, лирический субъект в газели Нима готов возвестить миру о своем счастливом прозрении. Он сам — вестник и готов воспеть свое новообретенное знание, как дервиш, впавший в транс в ритме звучащих музыкальных инструментов20:
«Я принес благую весть ( možde ) о прозрачности белого утра , И теперь одна рука на краю кубка [вина], в другой руке — бубен » (870).
Мотив приведенного бейта открывает возможность аллегорического толкования мотива вина и винопития как устойчивого классического топоса обретения «вина истинного знания»21. Например, у Хафиза сказано:
«Я увидел в прекрасном сне , что в руке моей была пиала , А в толковании ( ta‘bir ) значилось, что дела повернутся к удаче. Сорок лет я сносил страдания и печали , и, в конце концов, Средство от них оказалось в руках двухлетнего вина » 22 .
Стойкость лирического героя в преодолении жизненных тягот кроется в его искренней и чистой любви. Хотя ресницы подруги в газели Нима заставляют влюбленного проливать слезы, искреннее чувство духовно преображает его. Слезы превращаются в жемчужины ( dorr ):
«Сель слез , который по ночам я из глаз проливал, —
О радость , — остался, как жемчуг ( dorr ) в раковине ( sadaf ). Сердце мое не забудет, как в него вонзились ресницы, Удивленные скажут, что у меня перед глазами рядами [нанизаны] слезы .
На земле, где даже ангел не рискнул вступить на извилистую тропу,
Чистота моей [любви] — причина моего достоинства » (870).
В одной из газелей Хафиз сравнивает свои стихи с нанизанным на нить жемчугом ( dorr ) и сопоставляет их с небесным ожерельем звезд в Плеядах23 ( Sorayyā ):
«Ты сочинил газель (ğazal), ты просверлил жемчуг (dorr), приди же и сладостно пропой ее, Хафиз, Чтобы [в ответ] на твои стихи небеса рассыпали ожерелье Плеяд (‘aqd-e Sorayyā)»24.
Потаенная красота оказывается доступна тому, кто созерцает внутренним взором, обретая драгоценность там, где внешне ее не найти:
«С твоей красотой ( jamāl ) — черепки кажутся мне самоцветами , А без твоей красоты — самоцветы кажутся черепками» (870).
Чтобы сберечь чистоту помысла и взгляда, лирический субъект газели Нима должен следовать собственному назначению. Иные пути оказываются для него ложными, даже если сулят мирские блага. В своем одиночестве он ни за кем не следует, никому не подражает. В этом контексте упомянуты названия двух исламских правовых школ ( мазхабов 25):
«Рад я тому, что я не пошел из алчности к чьей-то двери, Ни вослед шафииту , ни вослед ханифиту . <…> Я мирянин , если не звучат твои слова ,
А когда твои слова звучат , я сторонюсь этого мира » (870).
Насир-и Хусрав (1004–1077), один из ярких представителей исма‘илитского 26 направления в шиизме, сходным образом обозначил поиски собственного пути к обретению истинной веры. Его герой отправился в странствие и, расспрашивая многих людей, пришел к выводу, что познание возможно не благодаря слепому следованию за кем-либо, а лишь через постижение собственным разумом открываемой Всевышним Истины:
«У перса и у араба, у индийца и у тюрка,
У жителя Синда, китайца, румийца (грека. — А. К. ) и иудея,
У философа, манихея, сабея и материалиста Я добивался искомого и спрашивал без устали. <…> Слепого следования [установлениям] не приемлю, разумных доводов не скрываю,
Слепым следованием Истину не выявить.
Если Господь пожелает открыть врата Своей милости,
Станет трудное легким, непроходимый путь проторенным» 27 .
Таким образом, четвертая газель Нима Юшиджа завершается утверждением верности собственному пути к Истине. Препятствия на нем преодолимы лишь силой Любви. Верная ему в любви единственная возлюбленная дает герою опору в противостоянии недругам. Пафос стихотворения основан на идее превосходства избранного личностью и только для нее предназначенного пути. Индивидуальное восприятие духовных ценностей традиций суфийского мистицизма обретает в лирике Нима Юшиджа очертания неосуфийского дискурса. Смещение акцента в интерпретации мотивов происходит в сторону личностного (а не абстрактно-обобщенного) переживания лирической ситуации:
« Подруга Нима — его [верная] спутница и залог его счастья , Что за печаль, если я для недруга стану целью» (870).
«Разгадка» тайны?
В газелях Нима четко прослеживается идея возрождения поэта, некогда утратившего вдохновение. Тяготы любовной одержимости, сковывающие душу героя, ассоциируются с муками творчества:
« Поэму о разлуке ( farāqnāme ) 28 Нима если омоют водой, Никто не сможет из нее стереть имя клетки » (869).
Естественное место обитания птицы — не в клетке, а в цветущем саду. Примечательно название одной из глав сочинения «Весенний са д», составленного ‘Абд ар-Рахманом Джами
(1414–1492), — « Рассказ о птицах, поющих в рифму в саду красноречия, и попугаях, слагающих газели в зарослях сахарного тростника поэзии ». Сравнение поэта с певчей птицей29 является общим местом во многих поэтических традициях.
Клетка, воплощающая идею несвободы, может выступать как образ, передающий ограниченность старой поэтической манеры для выражения индивидуальных переживаний личности. Освобождение из плена и обретение бесконечного пути «впереди» ( редиф второй газели ) выражается в том, что поэт свою историю может поведать на любом языке, главное, чтобы она была сложена «в память» о той луноликой возлюбленной — вдохновительнице30:
«У меня в этом рассказе простора было мало , а иначе бы Как у других, была бы у меня плавная газель впереди .
На этом месте мое сердце вчера ночью сказало: " Нима , Не сворачивай с пути, ведь безграничен он впереди .
На любом языке , на котором поешь , пой в память о ней, Тебя узнает [среди других] та ласковая луна , что [ждет] впереди "» (869).
В этих стихах очевидна прямая отсылка к жалобе Низами Гянджеви (1141/1147–1208) в поэме «Лайли и Маджнун»:
«Когда тесен двор повести, речь начинает хромать, топчась на месте» 31 .
Мотив сновидения в газелях Нима интерпретируется двояко. Тяжелый сон, сковывающий героя сомнениями, с одной стороны, аналогичен клетке. Мотив может ассоциироваться с потерянностью поэта, с его слепым следованием канону:
«Прошла жизнь Нима , а ты, увы, [пребываешь] во сне
И в мысл ях о том, что делать и чего не делать » (871).
С другой же стороны, сон может подразумевать мистическое состояние, в котором поэту открывается Истина — разгадка тайны слова. Ночное свидание с возлюбленной или явление ее образа во сне в классической газели служило предзнаменованием духовного прозрения. В этом контексте сон характеризуется эпитетами «сладкий», «счастливый», «несущий» (благую весть). В газели Джами сказано:
«Вчера глаза мои пребывали во сне , а счастье бодрствовало , Ночь, всю ночь задушевным другом моей души был образ
( xiyyāl ) любимой . <…> Наслаждение от сладости ее речи осталось в душе,
Боже, боже, что это были за сладкоречивые уста! <…>
Да будет для вас дозволен сладкий сон , о глаза, ведь Джами во сне
Видел нынче ночью то, ради чего бодрствовала жизнь» 32 .
Очевидно, что свидание с возлюбленной синонимично посещению поэта музой33. В газелях Нима, как и в газелях Хафиза и Джами, момент пробуждения от счастливого сна выступает знаком внутренней метаморфозы. Обретение вдохновения свыше оправдывает те художественные решения, которые Нима Юшидж осознает в качестве единственно пригодных для выражения собственного «Я». Сердце поэта, преисполненное вдохновения, уже не печалится о нарушенных обетах, оно готово к открытиям:
«Никого навсегда к определенному месту не привяжут, Правдива та речь , которую я постигаю.
Не раскрывай эту тайну , Нима , о делах добра и зла, Чтобы мне с воодушевлением взять нитку и [начать] вышивать. Хранители тайны хитрят , скрывая прошлое и будущее, Чтобы не увидели [другие], как говорит мой день:
"Неплохое начало"» (870).
Важную роль играет и традиционное включение имени поэта («Нима») в заключительных бейтах газелей (фигура хусн ат-тахаллус)34, благодаря чему смысл стихов может преломляться сквозь призму творческой биографии сочинителя. Представляется, что в цикле газелей Нима Юшиджа можно наблюдать первый шаг к становлению автопсихологического типа лирического субъекта35, что еще ярче проявилось в его произведениях того же периода, созданных свободным ‘арузом.
Заключение
Концептуальная структура классической лирики богато представлена в газелях Нима Юшиджа, новатора и основоположника иранского свободного стиха. Семантика изобразительных знаков (образов) персидской классической газели не утратила своей многоплановости и в творчестве автора XX в. Он создает текст, смысл которого расслаивается на несколько уровней толкования.
На определенном этапе истории персидской поэзии, начиная с XI–XII вв., в художественном концепте Любви соединились три различных денотата: 1) страсть к возлюбленной ( yār «подруга»); 2) религиозное озарение и стремление к Божественной истине; 3) обретение поэтического вдохновения. Такого рода аллегорическое содержание («означаемое») еще в классическую эпоху было закодировано образными знаками любовной газели . В газелях Нима Юшиджа все три уровня толкования согласуются друг с другом, и потому тексты могут быть интерпретированы тремя указанными способами. Полисемантизм органически присущ языку классической газели .
Поэт, разработавший авангардистскую манеру в иранской поэзии, воспользовался классическим языком в качестве инструмента авторской рефлексии36 с целью обоснования новой художественной стратегии. Газели Нима, будучи особого рода «манифестом», могут служить подтверждением того, что его обновленческий потенциал неразрывно связан с предшествующей поэтической традицией и что появление авангардистской художественной стратегии является закономерным этапом ее внутреннего развития. Самобытность иранского культурного кода органично вписывается в разработанные поэтом-новатором рамки свободного ‘аруза, хотя отчасти и навеянного знакомством автора с достижениями поэзии европейского модернизма. В осмысленной адаптации чужого художественного опыта кроется успешное преодоление иранской поэзией герметизма по отношению к иным литературным мирам современности. Все эти черты свойственны индивидуально-творческому типу художественного сознания37.
Список литературы Жанр газели в поэтике Нима Юшиджа
- Аверинцев С. С., Андреев М. Л., Гаспаров М. Л., Гринцер П. А., Михайлов А. В. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика: литературные эпохи и типы художественного сознания: сб. ст. М.: Наследие, 1994. С. 3–38.
- Гринцер П. А. Становление литературной теории. М.: РГГУ, 1996. 51 с.
- Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад / отв. ред. М. П. Алексеев, Ю. Д. Левин, Б. Н. Путилов. Л.: Наука, 1979. 493 с.
- Исакова И. Н. Литературный персонаж как система номинаций. М.: МАКС Пресс, 2011. 519 с.
- Кляшторина В. Б. «Новая поэзия» в Иране / отв. ред. Х. Г. Короглы. М.: Наука, 1975. 255 с.
- Пригарина Н. И., Чалисова Н. Ю., Русанов М. А. Газели Хафиза: тексты, переводы, комментарии: в 2 ч. / под науч. ред. Е. Л. Никитенко. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2024. Ч. 1. 480 с. (а)
- Пригарина Н. И., Чалисова Н. Ю., Русанов М. А. Газели Хафиза: тексты, переводы, комментарии: в 2 ч. / под науч. ред. Е. Л. Никитенко. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2024. Ч. 2. 586 с. (b)
- Рейснер М. Л. Эволюция классической газели на фарси (X–XIV вв.) / отв. ред. В. Б. Никитина. М.: Наука, 1989. 224 с.
- Рейснер М. Л. Мотивы авторского самосознания в персидской газели XI — начала XVIII века // Памятники литературной мысли Востока / отв. ред. П. А. Гринцер, Н. И. Никулин. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 250–334.
- Рейснер М. Л. Персидская лироэпическая поэзия X — начала XIII века: генезис и эволюция классической касыды. М.: Наталис, 2006. 424 с. EDN: XYXOPB
- Рейснер М. Л. Персидская классическая газель как музыкальный жанр: исполнительская практика в зеркале поэзии // DonumPaulum. Studia Poetica et Orientalia: к 80-летиюП. А. Гринцера. М.: Наука, 2008. С. 173–191. EDN: YXSYYP
- Рейснер М. Л. Сон и бессонница в тематическом лексиконе персидской классической газели (XII–XV вв.) // Вестник Московского университета. Серия 13: Востоковедение. 2019. № 2. С. 4–19 [Электронный ресурс]. URL: https://iaas.msu.ru/wp-content/uploads/2022/03/2019-2.pdf (20.01.2024). EDN: KWTQFK
- Рейснер М. Л. Эволюция поэтических фигур «красота перехода» и «красота концовки» в каноне персидской газели (XI–XV вв.): соотношение теории и практики // Ломоносовские чтения. Востоковедение и африканистика: тезисы докладов науч. конф. (Москва, 20–29 апреля 2021 г.). М.: Изд-во Москов. ун-та, 2021. С. 70–72. EDN: YFVKUV
- Рейснер М. Л., Кузнецов А. А. Генезис образа Феникса в персидской поэзии и его интерпретация в одноименном стихотворении Нима Юшиджа (1897–1960) // Ориенталистика. 2022. Т. 5. № 2. C. 366–386 [Электронный ресурс]. URL: https://www.orientalistica.su/jour/articles/2858/215562 (20.01.2024). DOI:10.31696/2618-7043-2022-5-2-366-386
- Рейснер М. Л., Чалисова Н. Ю. Газель // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://bigenc.ru/c/gazel-poeziia-9c4dec (20.01.2024).
- Чалисова Н. Ю. «Вино — великий лекарь»: к истории персидского поэтического топоса // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2011. № 2 (63). С. 126–157 [Электронный ресурс]. URL: https://rsuh.ru/upload/main/vestnik/ifkv/archive/Vostokovedenie/№%202_2011.pdf#page=126 (20.01.2024). EDN: NTZZJX
- Чалисова Н. Ю. «Друг, приносящий вдохновенье» в персидской поэтической рефлексии // Institutionis Conditori: Илье Сергеевичу Смирнову. М.: РГГУ, 2013. C. 347–373. EDN: RXWDMR (Сер.: Orientalia et Classica: Tруды Института восточных культур и античности; вып. 50.)
- Дженнати-Этаи А. Нимā: зендегāни ва āсāр-е у [Нима: его жизнь и сочинения]. Тегеран: Сафи ‘Алишах, 1334 (1955). 203 с. (На перс. яз.)
- Пурнамдариян Т. «Хāне-ам абри-ст»: ше‘р-е Нимā аз соннат тā таджаддод [«Мой дом — облачный»: поэзия Нима Юшиджа от традиции к обновлению]. Тегеран: Соруш, 1377 (1998). 401 с. (На перс. яз.)
- Тараби З. Нимāи-йе дигар: негāх-е тāзе бе ше‘рхā-е Нимā Юшидж [Другое «в стиле Нима»: новый взгляд на поэзию Нима Юшиджа]. Тегеран: Мина, 1375 (1996). 256 с. (На перс. яз.)
- Тахбаз С. Камāндāр-е бозорг-е кухсāрāн: зендеги ва ше‘р-е Нимā Юшидж [«Великий лучник из гор: жизнь и поэзия Нима Юшиджа»]. Тегеран: Салес, 1379 (2000). 645 с. (На перс. яз.)