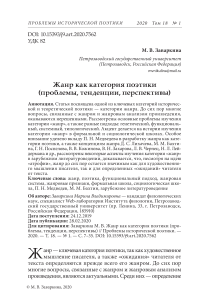Жанр как категория поэтики (проблемы, тенденции, перспективы)
Автор: Заваркина Марина Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.18, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена одной из ключевых категорий исторической и теоретической поэтики - категории жанра. До сих пор многие вопросы, связанные с жанром и жанровым анализом произведения, оказываются нерешенными. Рассмотрены основные проблемы изучения категории «жанр», а также разные подходы: генетический, функциональный, системный, типологический. Акцент делается на истории изучения категории «жанр» в формальной и социологической школах. Особое внимание уделено вкладу П. Н. Медведева в разработку жанра как категории поэтики, а также концепциям жанра Д. С. Лихачева, М. М. Бахтина, Г. Н. Поспелова, В. В. Кожинова, В. Н. Захарова, Л. В. Чернец, Н. Л. Лейдермана и др., рассмотрены некоторые аспекты изучения категории «жанр» в зарубежном литературоведении, доказывается, что, несмотря на идею «атрофии», жанр до сих пор остается значимым как для художественного мышления писателя, так и для определенных «ожиданий» читателя от текста.
Жанр, поэтика, функциональный подход, жанровая система, жанровые признаки, формальная школа, социологическая школа, п. н. медведев, м. м. бахтин, зарубежное литературоведение
Короткий адрес: https://sciup.org/147226249
IDR: 147226249 | УДК: 82 | DOI: 10.15393/j9.art.2020.7562
Текст научной статьи Жанр как категория поэтики (проблемы, тенденции, перспективы)
Жанр — ключевая категория поэтики, так как художественное мышление писателя, а также «ожидания» читателя от текста определяются прежде всего его жанром. До сих пор многие вопросы, связанные с жанром и жанровым анализом произведения, являются актуальными. Среди них — определение устойчивости и изменчивости категории жанр (проблема исторической подвижности), ее функциональности, формальносодержательных особенностей, жанрообразующих факторов, жанровых признаков (составляющих «объем» жанра), проблема типологии и классификации.
Одна из главных проблем жанрологии — терминологическая [Захаров, 1984: 4]. Среди определений жанра есть слишком «размытые»: «Любое описание текста <…> есть описание жанра» [Тодоров: 10], или: «…речевое поведение человека в той или иной ситуации есть жанр» [Строганов: 77]1, но есть определения, конкретизирующие функцию, которую жанр выполняет в тексте, — функцию создания художественной целостности. Уже Аристотель в «Поэтике» делал акцент на законченности, единстве и целостности как художественном законе не только трагедии, но и других жанров [Аристотель: 653, 672—673], хотя самого термина философ по понятным причинам еще не знал2.
Русская критика и литературоведение до начала XX в. не использовали понятие «жанр». Как известно, само слово, со всей его многозначностью, было заимствовано из французского языка А. Н. Веселовским и впервые употреблено в сугубо терминологическом значении в его работе «Три главы из исторической поэтики» (1899) [Веселовский: 186, 189, 193]3, на которую, в свою очередь, повлияла книга Ф. Брюнетьера «Эволюция жанров в истории литературы», вышедшая чуть ранее — в 1890 г.4 Веселовский использовал французское слово «genre» для обозначения и жанра, и рода и разрабатывал генетический подход, который в дальнейшем будет развит в работах В. Я. Проппа, М. М. Бахтина, Д. С. Лихачева, Е. М. Мелетинского5.
Разграничение понятий «род» и «жанр» произошло позже (подробнее см.: [Кожинов, 1957: 72], [Захаров, 1984: 9—10], [Захаров, 1992: 8]), когда вопросы жанра обсуждались сторонниками формальной и социологической школ: «Каждое новое литературно-критическое направление первых десятилетий XX в. начинало с критики академического позитивизма, историзма и традиционализма исторической поэтики А. Н. Веселовского» [Захаров, 2018: 9]. Формалисты ([Шкловский В.], [Эйхенбаум Б.], [Тынянов Ю.], [Жирмунский В.] и др.) рассматривали искусство как «прием» и делали акцент на формальной стороне произведений; представители социологической школы ([Сакулин П.], [Цейтлин А.], [Фриче В.] и др.) определяли жанр в зависимости от идеологии класса и делали акцент на содержании.
Когда именно произошло разграничение понятий «род» и «жанр»? Кто первым стал использовать термин «жанр» как категорию поэтики в строгом методологическом смысле? Пытаясь найти ответ на первый вопрос, В. Н. Захаров указал на статью о жанрах А. Цейтлина, появившуюся в 1930 г. в 4-м томе первой литературной энциклопедии, где понятия «род» и «жанр» уже разграничены [Захаров, 1984: 10]6. Действительно, в двухтомном «Словаре литературных терминов» 1925 г. о разделении этих понятий говорилось еще не очень уверенно: «Жанр (поэтический) — определенный вид литературного произведения. Основными жанрами можно считать эпический, лирический и драматический, но вернее прилагать этот термин к отдельным разновидностям»7. В данном словаре можно наблюдать разнобой в употреблении терминов «род» и «жанр»: так, повесть определяется как «род эпической литературы», а роман и рассказ как жанры8.
Термин «жанр» в начале XX в. мог употребляться в философском, эстетическом, искусствоведческом смыслах, но именно формалисты одними из первых «предложили рассматривать историю литературы как историю литературы sui generis, то есть как историю литературных форм, литературных приемов, литературных жанров» [Сегал: 98].
В отдельных работах представителей формальной школы, появившихся в самом начале 1920-х гг., понятие «жанр» уже не смешивается с родом. Например, в 1921 г. выходит статья В. Шкловского «Тема, образ и сюжет Розанова» (позже изданная под названием «Литература вне “сюжета”»), в которой автор рассуждает о сложности отнесения «величайших творений литературы» к определенному жанру (новеллы, романа и др.), а также пишет о «чистоте жанра», жанровом каноне и о том, что, например, «канон романа, как жанра, быть может, чаще, чем всякий другой, способен перепародироваться и переиначиваться», то есть рассуждает о жанровой эволюции [Шкловский, 1990: 123]. Однако, как указывает А. П. Чудаков, для «самого Шкловского проблема жанра и научного языка в эти годы вставала не столь остро»9.
В 1922 г. была написана статья Ю. Тынянова «Ода как ораторский жанр», в которой автор, анализируя жанр оды, исходит из традиционной для формальной школы концепции «старших» и «младших» жанров в литературе. В 1924 г. в журнале «Леф» вышла еще одна статья Ю. Тынянова — «Литературный факт» (первое название — «О литературном факте»), которая начиналась с двух самых важных, по мнению автора, для теории литературы вопросов: «Что такое литература? Что такое жанр?» [Тынянов: 255]. Тынянов одним из первых заметил, что «давать статическое определение жанра, которое покрывало бы все явления жанра, невозможно: жанр смещается » [Тынянов: 256]. Именно поэтому при характеристике жанра ученый опирался на его « величину », которая «нужна для сохранения жанра» и является «необходимым условием для единства жанра от эпохи к эпохе» [Тынянов: 256]. Главное достижение Тынянова — идея о необходимости изучения жанра в системе, характерной для определенной литературноисторической эпохи: «…изучение изолированных жанров вне знаков той жанровой системы, с которой они соотносятся, невозможно» («О литературной эволюции», 1927) [Тынянов: 276].
В 1924 г. в книге «Байрон и Пушкин» В. Жирмунский, рассуждая о жанре поэмы, разграничивает жанровые и родовые признаки произведений, а также оспаривает понимание жанра как сугубо формальной категории, отходя в этом от формалистов: «Как ни сублимировать понятие “жанра”, как ни стараться дать ему исключительно “формалистическое” определение, в его составе всегда останутся существенные факты “содержания”, т. е. элементы тематические» [Жирмунский: 224].
Тогда же, в 1924 г., в журнале «Русский современник» была опубликована и статья Б. Эйхенбаума «В поисках жанра», в которой, в частности, утверждалось, что в последние годы «шла ожесточенная борьба за стиль, чтобы привести к проблеме жанра — проблеме, которая была выключена из литературного оборота последних десятилетий и которая заново встала в наши дни» [Эйхенбаум: 291].
В 1925 г. появилось первое издание книги «Теория литературы. Поэтика» Б. В. Томашевского с разделом «Литературные жанры», где жанр рассматривался как группировка приемов, «совокупность доминант» [Томашевский: 206–207]. В рецензии на эту работу П. Н. Медведев, отмечая ее несомненные достоинства, называет формализм Томашевского «половинчатым», а его определение жанра «путаным» [Медведев: 499–501].
В монографии «Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику» (1928) П. Н. Медведев писал, что к проблеме жанра формалисты пришли «позже всего», имея в виду тот факт, что первоначально объектом их теории был поэтический язык [Медведев: 198]. Именно поэтому Медведев соглашался с Эйхенбаумом в том, что рассматривать ранние публикации формальной школы времен ОПОЯЗа (1916–1921 гг.) как академические исследования — значит «игнорировать историю» [Медведев: 116]. Впрочем, Медведев критиковал подходы не только формалистов, но и представителей социологической школы (П. Сакулина, В. Фриче и др.) [Медведев: 74–78].
В 1923 г. в журнале «Леф» была опубликована статья А. Цейтлина «Марксисты и “формальный метод”», в которой находим некоторые наблюдения над определенными жанрами, например, новеллой. Но не сам жанр интересует автора, главное в статье — «изложение методологической позиции, сочетающей марксистскую стратегию с околоформалистской тактикой» [Эрлих: 108].
П. Н. Сакулин в работе «Социологический метод в литературоведении» (1925) определял жанр как «отдельный элемент формы» и сближался в своем понимании с формалистами, однако «наполнял» эту форму социологическим содержанием: «Возьмем ли мы литературный жанр в целом или отдельные элементы поэтической формы <…> все имеет свое историческое и социальное происхождение» [Сакулин: 124].
Для другого представителя социологической школы, В. М. Фриче, автора статьи «Проблемы социологической поэтики» (1926), жанр неразрывно связан со стилем: «Центральными проблемами поэтики являются, несомненно, проблема стилей и проблема жанров. Обе проблемы тесно связаны между собой. Для известных стилей характерны известные жанры, а во всяком жанре сказывается господство тех или иных стилей» [Фриче: 169].
Особое место в этих спорах занимает концепция жанра, сформулированная П. Н. Медведевым и построенная на критике как социологической, так и формальной школы, — «Формальный метод в литературоведении…». В. Эрлих в работе «Русский формализм: история и теория», опубликованной еще в 1955 г., утверждал, что П. Н. Медведеву удалось «доказать необходимость выхода за рамки как асоциальной поэтики чистого формализма, так и “алитературного” социологизма убежденных марксистов» [Эрлих: 113]. Именно П. Н. Медведев, по мнению В. Н. Захарова, раскрыл «методологический статус» категории «жанр» [Захаров, 1985: 10].
В последние годы в связи с так называемой проблемой «спорных текстов» (к которым относили не только «Формальный метод в литературоведении…» П. Н. Медведева, но и «Фрейдизм» и «Марксизм и философия языка» В. Н. Волошинова и некоторые другие работы10) сложилась тенденция говорить в этом случае о «школе» или «круге»11 Бахтина и о проникновении «диалогизма» в саму сферу общения ученых времени их совместной работы в Витебске12. Однако все чаще звучат высказывания об идейной самостоятельности П. Н. Медведева и В. Н. Волошинова, о том, что они «не были людьми, далекими от академической науки, и, следовательно, их общение с Бахтиным основывалось не только на личных симпатиях, но и на общности научных интересов» [Васильев, 2011: 71]. Развитию этой идеи способствовали конференции, в том числе проводимые в шеффилдском Бахтинском центре (Sheffield’s Bakhtin Centre) в Великобритании. Одна из них называлась: «В отсутствии мастера: неизвестный круг Бахтина» (1999 г.) (подробнее см.: [Алпатов: 109], [Васильев, 2011: 96]).
В 2012 г. шестым томом завершилось издание Собрания сочинений М. М. Бахтина, редакторы которого (С. Г. Бочаров, Л. А. Гоготишвили и др.) отказались от публикации в седьмом томе работ так называемого «круга Бахтина» [Бахтин, т. 5: 6]. Это решение было принято в условиях текущей дискуссии о принадлежности «спорных текстов»13.
Выход в 2018 г. двухтомника научных трудов П. Н. Медведева решает проблему авторства юридически, но остаются этические аспекты. Традиционны публикации, в которых без должных оснований Бахтину приписываются суждения Медведева о жанре (см., напр.: [Лейдерман, 1982: 14–15], [Чернец: 74–78], [Шайтанов], [Николаев], [Тамарченко, 2001], [Та-марченко, 2003: 94], [Тамарченко, 2008], [Лейдерман, 2010], [Тамарченко, 2011], [Киреева: 422], [Сухих: 39–40] и др.). Между тем тезаурусный анализ употреблений терминов фабула, сюжет, жанр в «круге Бахтина» показывает, что Медведев и Бахтин понимали фабулу и сюжет противоположно, жанр — различно (подробнее см.: [Захаров, 2006], [Захаров, 2007], [Zakharov], [Захаров, 2012]).
Нисколько не умаляя авторитет М. М. Бахтина и его достижений, особенно в изучении речевых жанров, эпоса и романа14, мы разграничиваем взгляды П. Н. Медведева и М. М. Бахтина на интересующую нас проблему. Согласимся с В. Н. Захаровым, что уже в толковании «самого термина очевидны разные установки: Медведев исходил из терминологического значения слова “жанр”, утвердившегося в 20-е годы <…>. Бахтин сохранял множественность значений, идущую от французского языка и от словоупотребления А. Н. Веселовского. Для Бахтина жанр — это и эпос, и лирика, и драма, это и типы художественных произведений и речевых высказываний» [Захаров, 2007: 26]. Если стиль Бахтина и его терминология по большей степени «метафоричны», то «научный стиль Медведева <…> стремится к ясности и определенности речи, исчерпывающей четкости формулировок и оценок» [Захаров, 2007: 30]15.
Подходя к проблеме жанра, П. Н. Медведев, прежде всего, пытался сформулировать задачи новой социологической поэтики. Эти задачи он видел в том, чтобы «выделить литературное произведение как таковое»: «Что такое литературное произведение? Какова его структура? Каковы элементы этой структуры и каковы их художественные функции? Что такое жанр, стиль, сюжет, тема, мотив, герой, метр, ритм, мелодика и т. д.? Все эти вопросы <…> — все это обширная исследовательская область социологической поэтики» [Медведев: 76, 71– 72]. Медведев считал, что художник прежде всего «должен научиться видеть действительность глазами жанра» [Медведев: 206], а поэтика должна исходить «именно из жанра», так как «реально произведение лишь в форме определенного жанра» [Медведев: 199].
Если для формалистов жанр являлся группировкой приемов с определенной доминантой, то для Медведева «каждый выделимый элемент произведения является химическим соединением формы и содержания. Нет неоформленного содержания и нет бессодержательной формы» [Медведев: 214]16.
Медведев одним из первых отстаивал функциональный подход к пониманию жанра, основная функция которого — создание художественной целостности высказывания или произведения: «…жанр есть типическая форма целого произведения, целого высказывания» [Медведев: 199]. Функция создания художественной целостности, по мнению Медведева, проявляется в особенностях «завершения» произведения: «Жанр есть типическое целое художественного высказывания, притом существенное целое, целое завершенное и разрешенное. Проблема завершения — одна из существеннейших проблем теории жанра» [Медведев: 199].
М. М. Бахтин, выступая в 1920-е гг. с критикой формальной школы и обвиняя формалистические концепции жанра в отрыве формы от содержания, пишет больше о жанровой форме (хотя и содержательной по своей сути), чем о жанре как категории поэтики. Жанр у Бахтина в это время предстает преимущественно как категория эстетики. Так, в работе 1924 г. «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве»17 (эта статья предназначалась для журнала «Русский современник», однако по причине его закрытия не была тогда опубликована [Бахтин, т. 1: 711]) Бахтин определяет жанр как «композиционную форму» в отличие от «архитектонической»: «Юмор, героизация, тип, характер суть чисто архитектонические формы, но они осуществляются, конечно, определенными композиционными приемами; поэма, повесть, новелла суть чисто композиционные, жанровые формы» [Бахтин, т. 1: 278]. Все это единство Бахтин связывает со стилем: «Правильная постановка проблемы стиля — одной из важнейших проблем эстетики — вне строгого различения архитектонических и композиционных форм невозможна» [Бахтин, т. 1: 279].
На обсуждении доклада М. М. Бахтина «Роман как литературный жанр», состоявшемся 24 марта 1941 г. в ИМЛИ, Л. И. Тимофеев попросил М. М. Бахтина дать формулировку того, что он называет жанром. Бахтин отказался дать четкое определение: «Конечно, я отказываюсь дать определение жанра. Когда я в данном контексте говорю, что роман есть становящийся жанр, то я имею в виду под жанром не ту или иную литературную норму построения целого. Жанр — это норма, но определяющая форму, структуру целого литературного произведения»18.
Отказываясь от определения жанра, Бахтин подчеркивал, что проблема жанра «в высшей степени существенная», и снова связывал ее со стилем: «…проблема жанра <…> должна быть прорабатываема в связи с более серьезной проблемой так называемой композиционной стилистики»19. В тезисах к другому докладу «Слово в романе», прочитанному в ИМЛИ ранее, 14 октября 1940 г., ученый подчеркивал, что имеется в виду «стилистика жанров»: «Историко-систематическое изучение стилистики жанров (а не стилистики писателей, литературных направлений и школ) раскрывает присущее каждому жанру ощущение языка, особый модус его жизни, особую связь жанра с большими судьбами языковой жизни»20.
В 1953 г. в черновой рукописи «Проблема речевых жанров»21 Бахтин писал, что любое речевое высказывание «складывается и развивается в определенной жанровой форме» [Бахтин, т. 5: 180], а в подготовительных записях к этой работе, которые датируются началом 1950-х гг. [Бахтин, т. 5: 555], указывал на функцию создания художественной целостности, характеризующую жанр: «…жанр — это отстоявшаяся типологически устойчивая форма целого высказывания, устойчивый тип построения целого» [Бахтин, т. 5: 243].
Кроме создания художественной целостности жанр выполняет и коммуникативную функцию. В конце 1920-х гг. эту идею также развивал П. Н. Медведев: «Действительность жанра есть социальная действительность его осуществления в процессе художественного общения» [Медведев: 207].
Поздний Шкловский определял жанр как своеобразный договор (конвенцию) между автором и читателем: «Жанр — конвенция, соглашение о значении и согласовании сигналов.
Система должна быть ясна и автору, и читателю. Поэтому автор часто сообщает в начале произведения, что оно роман, драма, комедия, элегия или послание. Он как бы указывает способ слушания вещи, способ восприятия структуры произведения» [Шкловский, 1967: 220]22. Сходные суждения о важности для понимания художественного текста триады «автор-герой-читатель» есть в набросках Бахтина к работе «Проблема речевых жанров»: «Обращенность каждого жанра к слушателям или читателям» [Бахтин, т. 5: 222], а также в других работах (подробнее см.: [Бахтин, т. 1: 440–441, 538], [Бахтин, т. 3: 101, 498–500], [Бахтин, т. 5: 201], [Бахтин, т. 6: 104, 219]).
Во второй половине XX в. на материале древнерусской литературы функциональный подход к категории жанр развивал Д. С. Лихачев: «Изучение жанров с точки зрения их функций (функциональный подход) позволяет выявить основные линии в изменении жанровой системы Древней Руси» [Лихачев, 1986: 94]. Ученый полагал, что до XVII в. литературные жанры несут «помимо литературных функций, функции внелитературные» и «определяются их употреблением» и только начиная с XVII в. происходит деление на жанры, «основывающееся на чисто литературных признаках» [Лихачев, 1979: 55]. Д. С. Лихачев подчеркивал, что указание на жанр в древнерусской литературе нередко предполагало и адресат произведения — слушателя или читателя [Лихачев, 1979: 72]. По мнению В. Н. Захарова, «наблюдения Д. С. Лихачева над древнерусскими жанрами дают повод высказать мысль о трехчленной структуре жанра в древнерусской литературе: само литературное произведение, его внелитературная функция, субъект эстетического восприятия» [Захаров, 1985: 14].
Коммуникативная функция жанра активно изучалась и в зарубежном литературоведении. Так, идею понимания жанра как «социального контракта» между автором и читателем развивают Ф. Джеймисон и Дж. Каллер23, как «код поведения, установленный между автором и читателем» понимает жанр Х. Дуброу24. Г. Р. Яусс пишет о жанре как о категории, обладающей «горизонтом читательских ожиданий»: «…для каждого произведения читательские ожидания складываются в момент появления произведения из предыдущего понимания жанра, из форм и тематики уже известных произведений» [Яусс: 193]. Ж.-М. Шеффер в монографии «Что такое литературный жанр?» отмечает важность жанрового обозначения произведения и рассуждает о жанрах как об «актах коммуникации» [Шеффер: 82].
Коммуникативная функция жанра свидетельствует о том, что для анализа произведения важным остается авторское определение жанра — своеобразная подсказка читателю: «Традиция авторских жанровых обозначений указывает, на то, что жанровые категории продолжают оставаться живой реальностью сознания многих писателей и читателей» [Чернец: 6].
Нередко писатели дают свое, оригинальное понимание того или иного жанра: именно поэтому «Мертвые души» Н. В. Гоголя — это поэма, «Медный всадник», по определению А. С. Пушкина, «петербургская повесть», «Жизнь Клима Самгина» М. Горького тоже повесть.
Одна из ключевых проблем еще со времен В. Г. Белинского — разграничение повести и романа как жанров на материале русской классической литературы. По словам О. В. Захаровой, «за редким исключением многие критики до сих пор плохо различают повесть и роман: путаются в жанровых дефинициях, дают разные номинации одному и тому же произведению, ошибаются в суждениях по истории и теории жанров» [Захарова: 40]. В частности, исследовательница рассматривает проблему жанровой дифференциации повести и романа в полемике о Ф. М. Достоевском 1840-х гг.
Похожая ситуация происходит и в платоноведении XX в. Например, исследователи определяют жанр «Котлована» А. Платонова и как повесть, и как роман. И дело здесь в структурно-типологических особенностях произведения А. Платонова: оно содержит в себе черты и повести, и романа. Однако, обозначая жанр своего произведения, каждый писатель исходит из внутреннего ощущения жанра, которое нельзя игнорировать исследователю: «Включенные обычно в заглавия произведений, они (жанры. — М. З.) являются элементом художественной структуры текста, несут в себе, как правило, дополнительный художественный смысл: ведь жанр — это еще и указание автора, как читать, по каким законам судить о прочитанном, в каком литературном ряду следует отвести место его произведению» [Захаров, 1985: 50].
Кроме функционального подхода к жанру, литературоведение XX в. развивало и системный подход. Он рождался в спорах о жанровой эволюции и подвижности категории «жанр». Одним из первых об этом заговорил Ю. Тынянов в статьях, написанных в 1922–1927 гг. и вошедших позднее в сборник «Архаисты и новаторы» (1929). Параллельно с Тыняновым о необходимости совмещения синхронического и диахронического подходов к художественному произведению писал в конце 1920-х гг. П. Н. Медведев: «…разделение теоретической и исторической поэтики носит скорее технический, нежели методологический характер. И теоретическая поэтика должна быть историчной». В этом он видел сущность новой социологической поэтики [Медведев: 72, 73].
В середине XX в. об исторической подвижности категории жанр размышлял М. М. Бахтин. Он ввел метафору «память жанра», на которой базируется его концепция романа в творчестве Ф. М. Достоевского: «…жанр — представитель творческой памяти в процессе литературного развития», «литературный жанр по самой своей природе отражает наиболее устойчивые, “вековечные” тенденции развития литературы. В жанре всегда сохраняются неумирающие элементы ар х а и к и. Правда, эта архаика сохраняется в нем только благодаря постоянному ее о б н о в л е н и ю, так сказать, о с о в р е м е н е н и ю. Жанр всегда и тот и не тот, всегда стар и нов одновременно. Жанр возрождается и обновляется на каждом новом этапе развития литературы и в каждом индивидуальном произведении данного жанра» [Бахтин, т. 6: 120]25.
О необходимости слияния исторического и системного подходов в изучении жанров писал во второй половине ХХ в. Д. С. Лихачев: «Категория литературного жанра — категория историческая» [Лихачев, 1963: 47]. Лихачев одним из первых в советском литературоведении обосновал понятие «система жанров» и сделал его методологической категорией: «В литературе каждой эпохи существует внутреннее “равновесие” жанров внутри определенной системы, постоянно нарушаемое извне и постоянно восстанавливаемое на новой основе, вступающее в свою очередь в своеобразные сочетания…» [Лихачев, 1963: 48].
Становление жанров, а затем «ломка» жанровых канонов — закономерный процесс развития литературы. По сравнению с древнерусской литературой, в литературе нового времени происходит усиление авторского голоса, зависимость категории жанра от категории стиля ослабевает. Именно поэтому, как пишет Д. С. Лихачев, мы можем говорить о «житийном стиле», «хронографическом стиле», «летописном стиле», а для «литературы нового времени было бы совершенно невозможно говорить о стиле драмы, стиле повести или стиле романа» [Лихачев, 1963: 61].
Последовательность этого процесса показал С. С. Аверинцев, выделивший три этапа поэтического сознания: период «до-рефлективного традиционализма», когда «потребности в четком размежевании жанров нет, потому что еще нет специального мышления в жанровых категориях» [Аверинцев, 1996: 107]; период «рефлективного традиционализма», связанный с появлением первых риторик и поэтик, когда категория жанра еще остается «более существенной, весомой, реальной, нежели категория авторства», однако автор лишь участвует «“в состязании” со своими предшественниками и последователями в рамках единого жанрового канона» [Аверинцев, 1996: 109]. С XIX в. наступает третий период, который определяется как «конец традиционалистской установки» [Аверинцев, 1996: 150], когда на первое место выходит категория авторства и ценность жанра как некоего канона утрачивается26.
В связи с этими процессами в литературоведении ХХ в. появилась идея «гибели», или «атрофии», жанров. Еще в 1920 г. итальянский исследователь и философ Б. Кроче, рассуждая о литературных родах и жанрах, назвал это учение «победой интеллектуалистического заблуждения» [Кроче: 40]. В результате некоторые ученые предлагали либо расширить трехчленную родовую структуру27, либо вообще отказаться от разделения на литературные роды и жанры и заменить эти категории другими. Э. Штайгер писал в этом случае об основном «тоне» произведения (лирическом, эпическом и т. д.)28, а Н. Фрай — о «модусах» [Фрай]. Из современных исследователей идею атрофии жанров поддерживает С. Н. Зенкин, который считает, что сохранение категории «жанр» взяла на себя массовая культура: «Если на верхнем уровне литературы господствует модель свободного романа и каждый романист считает делом своей чести создать новую, непривычную романную структуру, то на низшем, массовом этаже вырабатывается, напротив, устойчивая система жанровых канонов, стабильно связывающих определенную форму и тематику» [Зенкин: 33].
Противоположная точка зрения в зарубежном литературоведении во второй половине ХХ в. была высказана Р. Уэллеком и О. Уорреном, Ц. Тодоровым, Х. Дуброу и др. В «Теории литературы» Р. Уэллек и О. Уоррен оспаривают позицию Б. Кроче и утверждают, что «литературный жанр — это не фикция, хотя бы потому, что эстетика произведения определяется его жанром» [Уэллек, Уоррен: 242]. Ц. Тодоров, критически анализирующий в начале своей книги теорию жанра Н. Фрая, доказывает, что «всякий литературоведческий анализ <…> осуществляется в двух направлениях: от произведения к литературе (или жанру) и от литературы (жанра) к произведению» [Тодоров: 10]. Ученый предлагает и методологическое решение проблемы: разграничение жанров теоретических и исторических. Первые — «результат теоретической дедукции», вторые — «результат наблюдений над реальной литературой»: «Таким образом, определение жанров — это постоянное движение между описанием фактов и абстрагируемой из них теории» [Тодоров: 16, 22]29.
Еще одна проблема, связанная с жанром, — вопрос о жанровых признаках, по которым мы судим о том или ином жанре и на основе которых возможна жанровая классификация: «…В произведении, рассматриваемом вне какого-либо жанрового ряда, нет собственно жанровых признаков <…> объем жанров изменяется в зависимости от жанрообразующих факторов, действующих в литературе того или иного периода» [Чернец: 15].
Жанровые признаки пытался описать уже в конце 1920-х гг. П. Н. Медведев, который считал, что «каждый жанр обладает своими способами, своими средствами видения и понимания действительности, доступными только ему» [Медведев: 204]. Поскольку художник должен видеть действительность «глазами жанра», а «каждый жанр по-своему тематически ориентируется на жизнь, на ее события, проблемы и т. п.» [Медведев: 206, 201], тематика и проблематика являются жанровыми признаками, идейно-философское содержание может нести в себе жанровый потенциал. Однако жанр способен овладеть лишь определенными сторонами действительности, он «есть сложная система средств и способов понимающего овладения и завершения действительности» [Медведев: 205].
Наблюдения М. М. Бахтина в области эпоса и романа также дают нам возможности для выделения жанровых признаков. Все жанры, кроме романа, — «твердые формы для отливки художественного опыта» [Бахтин, т. 3: 599]. Художественный опыт, изображенная действительность обладают своей пространственновременной организацией, поэтому «хронотоп в литературе имеет существенное ж а н р о в о е значение <…> жанр и жанровые разновидности определяются именно хронотопом» [Бахтин, т. 3: 341–342]. Кроме того, хронотоп имеет и «с юже т н о е з н ач е н ие » [Бахтин, т. 3: 288]. Наблюдения Бахтина над эпопеей и романом представляют методологическую ценность и позволяют выделять жанровые признаки других жанров, например повести (подробнее см.: [Захаров, 1985: 65–66]).
В. Н. Захаров среди жанровых признаков называет типы повествования (повесть, рассказ, сказ), концепцию повествовательного времени, определенную сюжетно-композиционную структуру, сущность и объем содержания, тип художественного завершения произведения [Захаров, 1984: 17–18].
Н. Л. Лейдерман выстраивает «теоретическую модель» жанра, состоящую из трех взаимосвязанных планов: плана содержания, плана структуры и плана восприятия. Так жанр становится «системой способов построения произведения как завершенного художественного целого» [Лейдерман, 1982: 8]. Ученый развивает идеи П. Н. Медведева и М. М. Бахтина, не разграничивая их концепции: «В жанровом содержании можно выделить следующие аспекты: тематику, то есть тот жизненный материал, который отобран жанром <…> проблематику, которая воплощается в особом типе (или характере) конфликта; экстенсивность или интенсивность воспроизведения художественного мира <…>. Нельзя, видимо, забывать и об эстетическом пафосе <…>. Жанровое содержание управляет жанровой структурой через посредство системы способов художественного отображения, господствующей в данном жанре» [Лейдерман, 1982: 22–23]. Ученый называет их «носителями жанра» и относит к ним «субъектную организацию художественного мира»; «пространственно-временную организацию»; «ассоциативный фон произведения»; «интонационно-речевую организацию» [Лейдерман, 1982: 24–26]. В итоге «система носителей жанра не только воплощает жанровое содержание, но одновременно выступает системой условностей, мотивирующей читательское восприятие» [Лейдерман, 1982: 26].
Еще одна проблема, которая существует в науке о жанре, — проблема жанровой типологии. Возможна ли она? Вопрос о жанровой типологии поднимался еще со времен нормативных поэтик, а в XIX в. эта проблема становится специальным объектом исследования (Гегель, Белинский и др.). В XX в. Б. В. Томашевский был первым, кто писал о «служебной, подсобной» функции жанровой классификации, а также о том, что она возможна только в пределах одной литературной эпохи [Томашевский: 210, 257]. Б. Ярхо, наоборот, настаивал на необходимости классификации, а ее отсутствие считал недостатком современного «точного» литературоведения. Для исследователя учение о жанре было «самым больным разделом теории композиции»: «Под богатой номенклатурой здесь скрывается полная бессистемность. Сказывается она и в определении жанра, и в классификации, и в описании» [Ярхо: 49]. М. М. Бахтин выстраивал типологию романа как жанра [Бахтин, т. 3: 180–337]. В то же время типологический подход к данной категории может способствовать тому, что один и тот же жанр будет помещен в разные группы, поэтому исследователи часто прибегают к перекрестной классификации (см., напр.: [Поспелов: 209]). Н. Л. Лейдерман считал, что хотя классификация — это первый шаг к «теоретическому обобщению», однако «превращение художественной категории, всегда имеющей смысл, эстетическую содержательность, в выхолощенную “единицу классификации” и самоцельное классификаторство уводят в сторону от живого предмета исследования» [Лейдерман, 1982: 12]. В зарубежном литературоведении классификационный подход всегда был одним из традиционных и авторитетных (подробнее см.: [Большакова])30.
Итак, понимание жанра как категории поэтики складывалось в спорах формальной и социологической школ. Идеи и концепции
Ю. Н. Тынянова, П. Н. Медведева, позже Д. С. Лихачева, М. М. Бахтина закрепили методологический статус категории. Разработанные генетический, функциональный, системный и типологический подходы к жанру открывают возможности интерпретации произведения с момента зарождения замысла (который нередко уже «регулируется» выбранным жанром) до его воплощения в художественное целое эстетического объекта.
Список литературы Жанр как категория поэтики (проблемы, тенденции, перспективы)
- Аверинцев С. С. М. М. Бахтин: ретроспектива и перспектива // Дружба народов. - 1988. - № 3. - С. 256-259.
- Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. - М.: Школа "Языки русской культуры", 1996. - 448 с.
- Алпатов В. М. Проблема авторства "спорных текстов" // Алпатов В. М. Волошинов, Бахтин и лингвистика. - М.: Языки славянских культур, 2005. - С. 94-118.
- Аристотель. Поэтика / пер. М. Л. Гаспарова // Аристотель. Сочинения: в 4 т. - М.: Мысль, 1983. - Т. 4. - С. 645-680.
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. - М.: Искусство, 1979. - 424 с.
- Бахтин М. М. Собрание сочинений: в 6 т. - М.: Русские словари; Языки славянской культуры. - 1997-2012.
- Большакова А. Ю. Современные теории жанра в англо-американском литературоведении // Теория литературы. Т. III: Роды и жанры (основные проблемы в историческом освещении). - М.: ИМЛИ РАН, 2003. - С. 99-130.
- Бройтман С. Н. Историческая поэтика // Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. - М.: Академия, 2004. - Т. 2. - 368 с.
- Васильев А. З. Из истории категории "жанр" // Проблемы исторической поэтики. - 1990. - № 1. - С. 11-21 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2321 (10.11.2019).
- DOI: 10.15393/j9.art.1990.2321
- Васильев Н. Л. История вопроса об авторстве "спорных текстов" в российской бахтинистике (М. М. Бахтин и его соавторы) // Интеграция образования. - 2003. - № 3. - С. 121-129.
- Васильев Н. Л. Лингвистическое содержание книги П. Н. Медведева "Формальный метод в литературоведении" в контексте коллективного творчества "бахтинского круга" // Диалог. Карнавал. Хронотоп. - 2009. - № 2. - С. 28-50.
- Васильев Н. Л. История вопроса об авторстве "спорных текстов", приписываемых М. М. Бахтину // Хронотоп и окрестности. - Уфа: Вагант, 2011. - С. 68-105.
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика. - М.: Высшая школа, 1989. - 406 с.
- Гачев Г. Д., Кожинов В. В. Содержательность литературных форм // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении: в 3 т. - М.: Наука, 1964. - Т. 2: Роды и жанры литературы. - С. 17-36.
- Днепров В. Роман - новый род поэзии // Днепров В. Проблемы реализма. - Л.: Советский писатель, 1961. - С. 72-153.
- Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Избр. труды. - Л.: Наука, 1978. - 423 с.
- Захаров В. Н. К спорам о жанре // Жанр и композиция литературного произведения: межвуз. сб. научн. тр. - Петрозаводск, 1984. - С. 3-19.
- Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: типология и поэтика. - Л.: Изд-во Лен-го ун-та, 1985. - 208 с.
- Захаров В. Н. Историческая поэтика и ее категории // Проблемы исторической поэтики. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1992. - Вып. 2. - С. 3-9. [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2355 (10.11.2019).
- DOI: 10.15393/j9.art.1992.2355
- Захаров В. Н. Проблема жанра в "школе" Бахтина (М. М. Бахтин, П. Н. Медведев, В. Н. Волошинов) // Proceedings of the XII International Bakhtin Conference. Jyväskylä, Finland, 18-22 July, 2005 / University of Jyväskylä; ed. by Mika Lähteenmäki, Hannele Dufva, Sirpa Leppänen, Piia Varis. - Jyväskylä, Finland, 2006. - P. 79-93.
- Захаров В. Н. Проблема жанра в "школе" Бахтина (М. М. Бахтин, П. Н. Медведев, В. Н. Волошинов) // Русская литература. - 2007. - № 3. - С. 19-30.
- Захаров В. Н. Проблемы исторической поэтики. Этнологические аспекты. - М.: Индрик, 2012. - 264 с.
- Захаров В. Н. Снова о перспективах изучения исторической поэтики // Проблемы исторической поэтики. - 2018. - Т. 16. - № 1. - С. 7-16. [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1522935865.pdf (10.11.2019).
- DOI: 10.15393/j9.art.2018.5021
- Захарова О. В. Проблема жанровой дифференциации повести и романа в полемике о Достоевском в 1840-годы // Филология как призвание: сб. ст. к юбилею проф. В. Н. Захарова / отв. ред. А. В. Пигин, И. С. Андрианова. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2019. - С. 39-48.
- Зенкин С. Введение в литературоведение. Теория литературы. - М.: РГГУ, 2000. - 81 с.
- Зырянов О. В. Феноменологический аспект теории лирического жанра // Проблемы литературных жанров: материалы X Международной научн. конф. - Томск: Томский гос. ун-т, 2002. - Ч. 1. - C. 354-358.
- Иванов Вяч. Вс. Значение идей М. М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики // Труды по знаковым системам. - Тарту, 1973. - Т. VI. - С. 5-44.
- Касаткина Т. А. Структура категории жанра // Контекст-2003: Литературно-теоретические исследования. - М.: ИМЛИ РАН, 2003. - С. 62-97.
- Киреева Н. В. Изучение категории жанра в эпоху жанровой деканонизации // Известия Самарского научного центра РАН. - 2015. - Т. 17. - № 1 (2). Филология. - С. 421-424.
- Кожинов В. Роман - эпос нового времени // Вопросы литературы. - 1957. - № 6. - С. 64-93.
- Кожинов В. В. К проблеме литературных родов и жанров // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении: в 3 т. - М.: Наука, 1964. - Т. 2: Роды и жанры литературы. - С. 39-49.
- Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. - М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1920. - Ч. I: Теория / пер. В. Яковенко. - 171 с.
- Лейдерман Н. Движение времени и законы жанра. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. - 256 с.
- Лейдерман Н. Л. Теория жанра: исследования и разборы. - Екатеринбург, 2010. - 900 с.
- Лихачев Д. С. Система литературных жанров Древней Руси // Славянские литературы. Доклады советской делегации. V международный съезд славистов. - М.: АН СССР, 1963. - С. 47-70.
- Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. - М.: Наука, 1979. - 360 с.
- Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе / отв. ред. О. В. Творогов. - Л.: Наука, 1986. - 408 с.
- Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. - М.: Искусство, 1975. - 776 с.
- Медведев П. Н. Собр. соч.: в 2 т. / изд. подгот. Ю. П. Медведев и Д. А. Медведева; отв. ред. Б. Ф. Егоров. - М.: Росток, 2018. - Т. II: Поэтика и психология творчества. - 928 с.
- Медведев Ю. П., Медведева Д. А. Круг М. М. Бахтина как "мыслительный коллектив" // Звезда. - 2006. - № 7. - С. 194-206.
- Медведев Ю. П., Медведева Д. А. Труды и дни круга М. М. Бахтина // Звезда. - 2008. - № 7. - С. 192-210.
- Медведев Ю. П., Медведева Д. А., при участии D. Shepherd. Полифония круга // Хронотоп и его окрестности. - Уфа: Вагант, 2011. - С. 170-197.
- Медведев Ю. П., Медведева Д. А. Круг М. М. Бахтина. К обоснованию феномена // Звезда. - 2012. - № 3. - С. 202-215.
- Николаев Н. И. Издание наследия Бахтина как филологическая проблема // Диалог. Карнавал. Хронотоп. - 1998. - № 3. - C. 114-157.
- Осовский О. Е. [Рец. на кн.: Бахтин М. М. Собр. соч.: в 6 т. - М.: Русские словари; Языки славянских культур, 1996-2012] // Известия РАН. Серия литературы и языка. - 2015. - Т. 74. - № 2. - С. 61-67.
- Осовский О. Е., Киржаева В. П. "…мне, так сказать, приписывают…": "спорные тексты" в бахтиноведении конца 1980-х - 1990-х // Филология: научные исследования. - 2018. - № 3. - С. 156-168. [Электронный ресурс]. - URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27297 (10.11.2019).
- DOI: 10.7256/2454-0749.2018.3.27297
- Паньков Н. М. М. Бахтин и теория романа // Вопросы литературы. - 2007. - № 3. - С. 252-315.
- Поспелов Г. Н. Проблемы исторического развития литературы. - М.: Просвещение, 1972. - 269 c.
- Сакулин П. Н. Социологический метод в литературоведении // Сакулин П. Н. Филология и культурология: сб. избр. работ. - М.: Высшая школа, 1990. - С. 87-132.
- Сегал Д. М. Пути и вехи: Русское литературоведение в двадцатом веке. - М.: Водолей, 2011. - 280 с.
- Строганов М. В. Жанр как конвенция автора и читателя // Художественное восприятие: основные термины и понятия (Словарь-справочник). - Тверь, 1991. - С. 77-80.
- Сухих И. Н. Структура и смысл: теория литературы для всех. - СПб.: Азбука-Аттикус, 2016. - 544 с.
- Тамарченко Н. Д. "Эстетика словесного творчества" Бахтина и русская религиозная философия. - М.: РГГУ, 2001. - 200 с.
- Тамарченко Н. Д. Методологические проблемы теории рода и жанра в поэтике XX века // Теория литературы. Т. III: Роды и жанры (основные проблемы в историческом освещении). - М.: ИМЛИ РАН, 2003. - С. 81-98.
- Тамарченко Н. М. Бахтин и П. Медведев: судьба "Введения в поэтику" // Вопросы литературы. - 2008. - № 5. - С. 160-184.
- Тамарченко Н. Д. Поэтика Бахтина и современная рецепция его творчества // Вопросы литературы. - 2011. - № 1. - С. 291-340.
- Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу / пер. Б. Нарумова. - М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. - 144 с.
- Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика / вступ. ст. Н. Д. Тамарченко. - М.: Аспект Пресс, 1996. - 334 с.
- Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. - М.: Наука, 1977. - 578 с.
- Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. - М.: Прогресс, 1978. - 328 с.
- Фрай Н. Анатомия критики // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. / сост., общ. ред. Г. К. Косикова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. - С. 232-263.
- Фриче В. М. Проблемы социологической поэтики // Вестник коммунистической академии. - М., 1926. - Книга XVII. - С. 169-180.
- Цейтлин А. Марксисты и "формальный метод" // Леф. - 1923. - № 3. - С. 114-131.
- Чернец Л. В. Литературные жанры (проблемы типологии и поэтики). - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 192 с.
- Шайтанов И. Жанровое слово у Бахтина и формалистов // Вопросы литературы. - 1996. - № 3. - С. 89-114.
- Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр? / перевод с франц., послесл. С. Н. Зенкина. - М.: Едиториал УРСС, 2010. - 192 с.
- Шкловский В. Кончился ли роман // Иностранная литература. - 1967. - № 8. - С. 218-231.
- Шкловский В. Б. Гамбургский счет: Статьи - воспоминания - эссе (1914-1933). - М.: Советский писатель, 1990. - 544 с.
- Эйхенбаум Б. М. В поисках жанра // Литература: теория, критика, полемика. - Л.: Прибой, 1927. - С. 291-295.
- Эрлих В. Русский формализм: история и теория / пер. с англ. А. В. Глебовский. - СПб.: Академический проект, 1996. - 352 с. (Серия "Современная западная русистика")
- Ярхо Б. Методология точного литературоведения: избр. работы по теории литературы. - М.: Языки славянских культур, 2006. - 927 с.
- Яусс Г. Р. История литературы как вызов теории литературы // Современная литературная теория. Антология / сост., перевод и примеч. И. В. Кабановой. - М.: Флинта: Наука, 2004. - С. 193-200.
- Huehls М. Contemporary Drift: Genre, Historicism, and the Problem of the Present, by Theodore Martin; Minor Characters Have Their Day: Genre and the Contemporary Literary Marketplace, by Jeremy Rosen. In: Twentieth Century Literature, 2019, vol. 65, no. 3, pp. 289-298.
- DOI: 10.1215/0041462X-7852097
- Zakharov V. The Concept of the Genre in Bakhtin's School (Mikhail Bakhtin, Pavel Medvedev, Valentin Voloshinov) // Social Sciences. - 2008. - № 1. - P. 49-62.