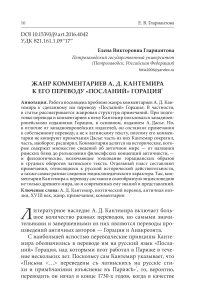Жанр комментариев А. Д. Кантемира к его переводу "Посланий" Горация
Автор: Глариантова Елена Викторовна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.14, 2016 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена проблеме жанра комментариев А. Д. Кантемира к сделанному им переводу «Посланий» Горация. В частности, в статье рассматривается жанровая структура примечаний. При подготовке перевода и комментариев к нему Кантемир пользовался западноевропейскими изданиями Горация, в основном, изданием А. Дасье. Но, в отличие от западноевропейских издателей, он составлял примечания к собственному переводу, а не к латинскому тексту, поэтому его комментарии не копируют примечания Дасье: часть из них Кантемир сократил, часть, наоборот, расширил. Комментарии делятся на исторические, которые содержат множество сведений об античном мире - от названия римских блюд до разъяснения философских концепций античности, - и филологические, включающие толкование горацианских образов и трудных оборотов латинского текста. Отдельный пласт составляют примечания, относящиеся к русской исторической действительности, а также самые разные сведения энциклопедического характера. Так, комментарии Кантемира к переводу составили своеобразную энциклопедию не только древнего мира, но и современных ему знаний и представлений.
А. д. кантемир, поэтический перевод, античная поэзия, xviii век, жанр, примечания, комментарии
Короткий адрес: https://sciup.org/14748963
IDR: 14748963 | УДК: 821.161.1.09“17” | DOI: 10.15393/j9.art.2016.4042
Текст научной статьи Жанр комментариев А. Д. Кантемира к его переводу "Посланий" Горация
Л и тературное наследие А. Д. Кантемира включает большое количество разных переводов, но самыми значительными и завершенными из них являются переводы произведений античных авторов — Горация и Анакреонта.
С наибольшей ясностью переводческие принципы Кантемира обозначились в переводе им на русский язык «Посланий» Горация, над которыми поэт работал в Париже в течение нескольких лет. Поскольку сам Кантемир указывает, что «Письма <…> переведены съ латинскихъ на русскiе стихи и примѣчанiями изъяснены въ Парижѣ»1, то, вероятно, переводить он начал в конце 1730-х годов, когда в качестве французского посла приехал в Париж в сентябре 1738 года. К 1740 году Кантемир закончил перевод десяти писем первой книги «Посланий». В скобках заметим, что в нынешней переводческой традиции Epistulae Горация принято называть «Посланиями», исходя из их жанровой природы. У Кантемира же это «Письма», что соответствует буквальному переводу с латинского epistulae. Некоторые исследователи, например, Н. Ю. Алексеева, употребляют название в духе стихотворных посланий XVIII века — «Эпистолы». Нам же представляется более правильным обозначить их словом «Послания». Весь перевод: 22 письма (около 2000 стихов) — полностью был завершен в 1742 году. Неизвестно, успел ли Кантемир отправить беловой вариант рукописи2 перевода в Санкт-Петербург. Б. А. Градова предполагает, что рукопись появилась в России уже после смерти поэта3. В 1744 году в Петербургской Академии Наук вместе со стиховедческим трактатом Кантемира «Письмо Харитона Макентина» были изданы в его переводе десять «epistulae» под названием: «Квинта Горацiя Флакка десять писемъ первой книги. Переведены съ Латинскихъ стиховъ на Рускiе и примѣчаніями изъяснены отъ знатнаго нѣкотораго охотника до стихотворства съ пріобщеннымъ при томъ письмомъ о сложеніи Ру-скихъ стиховъ. Печатаны въ Санктпетербургѣ при Императорской Академіи Наукъ 1744 года». Издание производилось по рукописи, присланной Кантемиром в мае 1740 года Хр. Гроссу (она совпадает с редакцией списка РНБ). Перевод вышел анонимно. Переиздание было осуществлено в 1788 году. Полностью, помимо десяти упомянутых писем, этот переводческий труд Кантемира остался неизвестен его современникам и по этой причине не оказал влияния на развитие поэтического перевода XVIII века. Однако некоторые исследователи, например, Э. Д. Фролов, полагают, что даже этих двух первых неполных изданий Кантемира было достаточно, чтобы он оказался значимым для последующих переводов произведений Горация в России: «Все же не следует недооценивать значение кантемировского перевода Горация: из переводов Кантемира, относящихся к древности, это был единственный, опубликованный еще в XVIII в. Его чи- тали (недаром он выдержал два издания), и он несомненно оказал влияние на последующие русские переводы Горация» [15, 31].
В Публичную библиотеку рукопись полного текста перевода поступила лишь в 1813 году от законоучителя 2-го кадетского корпуса иеромонаха Феофила. По ней в 1867 году была осуществлена полная (и по сей день единственная) его публикация в издании под общей редакцией П. А. Ефремова. В настоящей работе мы пользовались именно этой публикацией текста перевода. В классическое собрание стихотворений Кантемира в «Библиотеке поэта» 4 вошло только четыре письма (Писем книга I: Письмо I. К Меценату; Письмо VI. К Нумицию; Письмо XX. К своей книге. Писем книга II: Письмо I. К Августу), причем примечания поэта к ним оторваны от текста (помещены в конец тома), что не соответствует исходному замыслу переводчика.
Перевод «Посланий» Горация почти не привлекал внимание исследователей. Между тем выявление его особенностей важно не только для понимания теоретических взглядов Кантемира на перевод и определения личного уровня его переводческого мастерства, но и помогает уяснить вопросы становления ранней русской филологической науки в связи с первыми русскими комментированными изданиями. Как верно замечает Н. Ю. Алексеева, «филологическая наука начинается с работы по подготовке издания автора. Не вышедшие в свое время подготовленные Кантемиром издания переводов анакреонтических од и эпистол Горация принадлежат к первым памятникам русской филологической мысли и уже поэтому требуют самого внимательного к себе отношения» [1, 6].
Свой переводческий труд Антиох Кантемир адресует в виде стихотворного посвящения императрице Елизавете Петровне: «Елисаветѣ Первой, августѣйшей императрицѣ и самодержицѣ всероссiйской, государынѣ всемилостивѣй-шей» (1, 384). «Посвящение» было приписано к переводу не сразу, а лишь в марте 1743 года в связи с последней попыткой автора издать свои сочинения. Однако в единственном прижизненном издании 1744 года его нет. Уже в этом
«Посвящении» Кантемир определяет морально-этическое содержание переведенных им «Посланий»:
Къ нравовъ исправленiю творецъ писать тщался, Искусно хвалитъ вездѣ красну добродѣтель И гнусное вездѣ онъ злонравiе хулитъ: Ты и добродѣтели лучшая защита… (1, 384)
Далее, обращаясь к Елизавете:
Сильнѣе, прiятнѣе венузинца звоны, Но я твоимъ говорю языкомъ счастливымъ, И хоть сладость сохранить не могли латинскихъ, Будутъ не меньше стихи русскiе полезны… (1, 385)
Эту дидактическую направленность своего перевода Кантемир подчеркивает и в особом, предпосланном переводу Предисловии, где также подробно поясняются выбор переводимого текста и принципы перевода: «Для того и я желая дать на нашемъ языкѣ опытъ перевода латин-скихъ стихотворцевъ, чаялъ, что не могъ бы сыскать луч-шаго, а изъ его сочиненiй выбралъ я его Письма, для того что онѣ больше всѣхъ его другихъ сочиненiй обильны нравоученiемъ. Почти всякая строка содержитъ какое либо правило, полезное къ учрежденiю житiя» (1, 385). За Предисловием следует краткое «Житiе Квинта Горацiя Флак-ка» — «едва ли не первый опыт критико-биографического портрета в новой русской литературе», по замечанию З. И. Гершкович [6, 488], — а также «Таблица писемъ Горацiевыхъ» (1, 388) с перечислением переведенных посланий и кратким (в 2–3 строчки) их содержанием.
При подготовке своего перевода Кантемир пользовался, как он сам указывает, готовыми западноевропейскими изданиями Горация как источниками латинского текста для перевода и для работы над примечаниями: «Для того примѣчанія большую часть труда моего составляютъ, хотя оныя отъ большой части я занялъ у Дассіера и другихъ толкователей Гораціевыхъ» (1, 386). Таким образом, один из источников примечаний — издания Андре Дасье, наиболее авторитетного в то время издателя и комментатора Горация. Имена других толкователей, с которыми мог сверяться Кантемир, прояснить крайне сложно, поскольку в это и более раннее время во Франции и других странах Западной Европы выпускалось огромное количество комментированных изданий Горация, с которыми мог быть знаком сатирик.
К концу 1730-х годов (предполагаемое время начала работы Кантемира над переводом) в западноевропейской филологии сложилось несколько типов изданий античных авторов, в том числе и Горация. Первый тип предполагал издание с публикацией текста и комментариями на латинском языке. Ко второму относились издания латинского текста оригинала с примечаниями на национальном языке издателя. Еще один тип, новейший, быстро распространявшийся, воспроизводил латинский текст в паре с переводом на национальный язык и, как правило, тоже комментировался на языке переводчика и предполагаемого читателя (издание in regards). Особенно много выходило таких изданий во Франции. Французские переводы римских авторов были все прозаические, независимо от исходной формы латинского оригинала, а комментарии содержали максимально подробное толкование исторических реалий древности, а также необычно употребленных латинских выражений. Такие издания отражали быстрое развитие филологической науки, стремящейся к возможно более полному пониманию древних текстов, и были очень объемными. Например, парижское издание Горация Дасье 5 включало 9 томов (в формате in octavo, карманный формат). Однако были публикации отдельных жанров Горация (од, сатир, писем) и специальные школьные издания. Во все эти типы изданий непременно входил латинский текст, и он считался основным, а перевод на национальный язык, если он был, являлся приятным дополнением.
Разделы, с которых Кантемир начинает свой перевод: посвящение, предисловие, жизнеописание Горация, — традиционны для европейских изданий античных авторов. Однако Кантемир, замышлявший свое издание как отдельную книгу, намеренно не помещает здесь текст подлинника. Это приводит к тому, что, в отличие от западноевропейских предшественников, он делает примечания не к латинскому тексту, а к собственному переводу, поэтому они не копируют комментарии Дасье и включают большой пласт реалий, относящихся к русской исторической действительности. Трудно сказать, почему Кантемир решил отступить от общепринятой практики изданий того времени, подготовив только перевод и комментарии к своему переводу. Тем более что потенциальными читателями перевода были и те, кто обучался латинскому языку: «…я предпріялъ переводъ сей и не только для тѣхъ, которые довольствуются просто читать на русскомъ языкѣ Письма Гораціевы, по латински не умѣя; но и для тѣхъ, кои учатся латинскому языку и желаютъ подлин-никъ совершенно выразумѣть» (1, 386). При таком читателе, казалось бы, латинский текст необходим. Н. Ю. Алексеева выдвигает интересную версию в духе философии языка. Она предполагает, что Кантемиру была близка идея «идеального текста», существующего, подобно вечному идеальному миру Платона, над языком, вне конкретного его воплощения. Согласно этой идее, эквивалентный перевод абсолютно синонимичен оригиналу и даже допускает некую правку, очищение первоначального текста: «Идеальный текст, находящийся как бы вне, над языком, мог для Кантемира не быть чуждой идеей. Ведь сам его перевод, выполненный стихами без рифм с установкой “поблизку держаться первоначального” латинского текста и стремящийся к буквальности, как бы воспроизводил текст Горация» [1, 12]. Иногда Кантемир действительно позволяет себе править текст Горация, например, вслед за Дасье он исправляет 31 стих VII Письма: вместо in cumeram frumenti (в корзину зерна) он читает in cameram frumenti (в комнату с зерном), переводя: «Въ житной вкрала-ся амбаръ» (1, 439). Заметим, что подобная установка на равноправие перевода и оригинала сразу же невероятно повышала планку переводчика, требуя от него высочайшего уровня мастерства. По нашему мнению, причиной того, что Кантемир оставляет и комментирует только свой перевод, помимо установки на «идеальный текст», является еще и то, что поэт в Кантемире оказался сильнее филолога-ученого. Таким образом, он больше следует европейской литературной традиции перевода Горация, нежели научно-издательской. Переводя поэтический текст Горация стихами, Кантемир чувствует себя сотворцом римского классика. Об этом отношении к переводу как к искусству и творчеству уже в XVIII столетии прекрасно писал Н. Любимов: «Художественный перевод, как поэтический, так и прозаический, — искусство. Искусство — плод творчества. А творчество несовместимо с буквализмом. Это уже отчетливо осознавала литература XVIII века. Она отграничивала точность буквальную, подстрочную, от точности художественной. Она понимала, что только художественная точность дает возможность читателю войти в круг мыслей и настроений автора, наглядно представить себе его стилевую систему во всем ее своеобразии, что только художественная точность не приукрашивает и не уродует автора» [11, 5]. К тому же Кантемир делал стихотворный перевод именно для широкого круга тогдашних русских читателей, из которых далеко не все владели языком оригинала. Поэтому, несмотря на длительное пребывание за границей и некий внутренний космополитизм (под которым мы подразумеваем обращенность к разным культурам одновременно), поэт ощущал себя все-таки частью русской культуры и предпринимал переводы «по должности гражданина». В этом соединении нет парадокса. М. М. Бахтин так пишет об этой возможности понимания чужой культуры сквозь призму своей: «Существует очень живучее, но одностороннее и потому неверное представление о том, что для лучшего понимания чужой культуры надо как бы переселиться в нее и, забыв свою, глядеть на мир глазами этой чужой культуры. Такое представление, как я сказал, односторонне. Конечно, известное вживание в чужую культуру, возможность взглянуть на мир ее глазами, есть необходимый момент в процессе ее понимания; но если бы понимание исчерпывалось одним этим моментом, то оно было бы простым дублированием и не несло бы в себе ничего нового и обогащающего. Творческое понимание не отказывается от себя, от своего места во времени, от своей культуры и ничего не забывает. Великое дело для понимания — это вненаходимость понимающего — во времени, в пространстве, в культуре — по отношению к тому, что он хочет творчески понять» [3, 334].
Итак, замечательную часть перевода, которая сама по себе заслуживает отдельного исследования, составляют подробнейшие примечания Кантемира, обозначившие глубоко филологический подход к переводу. Обширные и детальные (буквально к каждой строчке) комментарии представляют толкование трудных мест, исторических реалий и мифологических образов, значение новых слов. Объясняя ту или иную мысль Горация, Кантемир во многих случаях подробно высказывает и свои нравственно-этические взгляды, и общественно-научные идеи. А. А. Дерюгин так пишет об этой удивительной черте перевода: «C момента своего появления стихотворный перевод вышел за пределы дилетантских экспериментов и поднялся до научной филологической работы» [10, 28].
Сам Кантемир в «Предисловии» к переводу объясняет необходимость подобных примечаний заботой о читателях, об их «услаждении и просвещении»: «Нужнѣе еще было изъяснить обычаи древніе, обряды и другія вещи, и имена лицъ, о которыхъ въ Письмахъ Гораціевыхъ упоминается, понеже безъ того не только мало бы услажденіе читатель отъ нихъ получить могъ, но часто были бы и совсѣмъ не вразумительны. Для того примѣчанія большую часть труда моего состав-ляютъ…» (1, 386). Рассуждая о толковании использованных им новых и не совсем понятных читателю слов, он замечает: «…я не оставилъ оныхъ силу изъяснить въ приложенныхъ примѣчаніяхъ, такъ чтобъ всякому были вразумительны, нужны были теперь тѣ примѣчанія; современемъ оныя новизны, можетъ быть, такъ присвоены будутъ народу, что никакого толку требовать не будутъ» (1, 386). Такое соединение задач перевода и комментирования — «услаждения и просвещения» — отвечает горацианскому принципу utile dulci («полезное и сладкое»). В предисловии к переводу «Таб-лицы Кевика-философа» (1729) Кантемир упоминает это «усладительное» и «полезное»: «Кевикъ-философъ чудныя премѣны житiя человѣческаго первый изъ древнихъ новымъ видомъ писанiя такъ искусно изобразилъ, что за тѣмъ у всѣхъ чрезъ столько вѣковъ таблица сiя въ великомъ была почтенiи. Въ ней онъ усладительное соединялъ полезному, и правило житiя такъ совершенное показалъ, что можно его въ нраво-учителяхъ имѣть не за послѣдняго»6.
Просветительский характер перевода соответствовал духу времени. Как пишет А. А. Дерюгин, «авторы многочисленных “предисловий” и “предуведомлений” к переводам непременно указывали, что ими двигало желание “оказать услугу отечеству”, “принести пользу согражданам”» [9, 9]. Стремление Кантемира к распространению знаний, к передаче опыта, накопленного человечеством, как нельзя лучше раскрывалось в переводах и тщательных примечаниях к ним. Об этой особенности литературы XVIII века замечательно пишет М. Л. Гаспаров: «Бывают эпохи, когда комментарий — самое надежное просветительское средство. Так, Кантемир снабжал свои переводы Горация (а Тредиаков-ский — Роллена) примечаниями к каждому слову, из которых складывалась целая подстраничная энциклопедия римской литературы и жизни» [5, 313].
Подробные комментарии Кантемира к собственным произведениям и к переводам составили своеобразную энциклопедию не только древнего мира, но и современных ему знаний и представлений, воплотили идею энциклопедич-ности, общего свода знаний о мире, столь привлекательную для самого комментатора и характерную для европейского интеллектуального мышления XVIII века.
Любопытно, что Кантемир частично достиг своей цели как комментатор, желающий представить подробный свод знаний о мире своим потенциальным читателям. Мы имеем ретроспективное свидетельство этого: Василий (Добрынин) Крашенинников при составлении «Описания земноводного круга» (Государственный архив Ярославской области, № 60 (1053), 1747–1761 гг.) пользовался в том числе и произведениями Кантемира, о чем он пишет в «Предувещании» к своему сочинению [13, 20].
Однако, вероятно, были и объективные причины обращения Кантемира к жанру комментариев. Е. Э. Бабаева полагает, что идея комментирования текстов могла возникнуть, с одной стороны, под влиянием европейской, прежде всего французской издательской традиции начала XVIII века [2, 17]. Дело в том, что в это время французская Академия Наук предложила начать издание комментированных образцовых текстов французских авторов. Согласно мнению Академии, текст должен был сопровождаться помещенными внизу страницы комментариями, посвященными особенностям стиля и языка («sur le style et le langage»), основаниям и правилам поэтики («sur le fond, et sur les règles de l’art»), а также разбору мыслей и чувств («sur les pensées et les sentiments») [16, 886]. С другой стороны, учитывая, что Кантемир снабжал свои произведения комментариями уже с конца 1720-х годов, когда он еще был в России, на их появление могли повлиять «Примечания» на «Санкт-Петербургские Ведомости» (первый том назывался «Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в Ведомостях», по сути это был первый отечественный журнал с 1728 г.), которые составлялись как обширный комментарий к текстам, публиковавшимся в газете «Санкт-Петербургские Ведомости». Комментарии к переводу «Речи королю» Буало были составлены Кантемиром в 1727–1729 гг. В известном нам списке перевода «Речи королю» [7, 122] всего пять примечаний, и они уже включают типы комментариев, в дальнейшем широко используемые Кантемиром как в оригинальных, так и в переводных произведениях. Одно из них поясняет исторические детали, прочие разбирают поэтические выражения, использованные Буало. В предисловии к переводу «Посланий» Горация Кантемир сам разделяет свои комментарии на эти два рода: одни служат для пояснения употребленных им при переводе «новых слов и речений» (собственно филологический комментарий), вторые объясняют «обычаи древнiе, обряды и другiя вещи, и имена лицъ, о которыхъ въ Письмахъ Гораціевыхъ упоминается» (1, 386) (исторический, реальный комментарий).
Идея комментирования текстов была очень важна для Кантемира. Он неоднократно и подробно возвращается к ней в предисловиях к разным переводным текстам. Так, в предисловии к переводу «Разговоров о множестве миров» Б. Фонтенеля (1730) он так объясняет необходимость примечаний:
Приложилъ я къ ней <книжке> краткiя примѣчанiя, для изъясненiя такъ чужестранныхъ словъ, которыя и не хотя при-нужденъ былъ употребить, своихъ равносильныхъ не имѣя, какъ и для русскихъ, употребленныхъ въ иномъ разумѣнiи, нежели обыкновенно чинится. Въ нихъ же вмѣстилъ нужное историческое извѣстiе особъ, поминаемыхъ въ сихъ разгово-рахъ, чтобъ читатель имѣлъ всѣ нужные способы для совер-шеннаго разумѣнiя сея книги. Расположилъ я всѣ примѣчанiя на каждую рѣчь такъ, что гдѣ оная въ самомъ разговорѣ находится, тамъ же и то на нее на нижнемъ полѣ подъ чертою; а дабы знать примѣчаемое слово, то какъ оно, такъ и примѣчанiе, тѣмъ же однимъ цифирнымъ числомъ означены. И такъ я надѣюся, что въ сихъ примѣчанiяхъ всѣмъ невразумительнымъ словамъ сея книги довольной толкъ сыскаться имѣетъ (2, 391).
Кантемир настолько беспокоился о правильности составления примечаний, что к переводу «Песен» Анакреонта даже оставил особые указания типографскому наборщику («Известие наборщику»): примечания набираются более мелким шрифтом, чем сам текст, должны быть соотнесены со стихом, к которому относятся, и размещены внизу страницы (см.: [1, 340]).
Среди примечаний Кантемира к переводу есть и комментарии прямо лингвистического характера, они возникают при введении им новых слов и заимствований. Введение новых слов и понятий в язык перевода вписывалось в концепцию переводчика как просветителя: переводчик должен обогащать родной язык путем изобретения новых слов или приспособления к нормам своего языка заимствований. В предисловии к переводу «Истории Филиппа» М. Ю. Юсти-на 7 читаем: «Все те народы <греки, римляне, итальянцы, англичане, французы, немцы> один другого книги переводили от чего нетолко знание наук и художеств размножилось, но и язык их обогащен многими новыми словами» 8 . В этом Кантемир признает «конец», одну из целей перевода. Так, извиняясь перед читателем, что в переводе «Писем» Горация он использовал новые «и потому не вовсе вразумительные читателю» слова, он пишет: «Да еще и другая польза отъ того произойдетъ, ежели напослѣдокъ тѣ новыя слова и рѣченія въ обыкновеніе войдутъ, понеже чрезъ то обогатится языкъ нашъ, который конецъ въ переводѣ книгъ забывать не должно» (1, 386).
Тщательно комментируя перевод как лингвист, Кантемир ставит русский и латинский текст в замечательную взаимосвязь: русский язык им мыслится как возможная проекция на латинский. Это мысль смелая и удивительная для того времени, поднимающая только складывающийся еще литературный русский язык на высоту классической латыни. Таким образом, перевод должен был помочь пониманию латинского текста Горация, а знание латинского текста помогало понять перевод. Эта установка на калькирование латинского языка привела, например, к уподоблению синтаксиса не только перевода, но также и оригинальных сатир латинскому строю предложения. Об этом, в частности, подробно пишет С. И. Николаев: «Видимая простота стиля сатир Кантемира — это элитарная простота, которой нельзя достичь иначе, как штудируя римских классиков. <…> Если предварительно суммировать наблюдения над поэтическим синтаксисом Кантемира, а именно над теми его чертами, которым он сам в комментариях придавал значение, то вывод можно сформулировать примерно следующий. Кантемир создает в сатирах принципиально новый поэтический синтаксис, ориентированный на классическую поэзию и использующий ее средства, благо именно славянские языки позволяют это осуществить. Имитируя латинский стих, Кантемир с небывалой в предшествующей истории русского стиха интенсивностью использует инверсии, переносы и другие приемы (оборот асc. + inf., одно отрицание или нечастые ранее риторические фигуры, как хиазм и гипербат), сознательно усложняя от редакции к редакции свой стиль. Он не только пишет “с трудом”, но и трудно — чтение его поэзии это труд, требующий интеллектуальных усилий» [14, 3–8].
Множество комментариев знакомит читателя с особенностями поэтики Горация: композицией его произведений, образными выражениями, даже синтаксисом. Например, замечания по морфологии: «Напоенной вмѣсто напоенною, творительной падежъ, котораго окончанiе ою часто въ простомъ языкѣ перемѣняется на ой, такъ обыкновенно говоримъ: махнуть рукой вмѣсто рукою и проч.» (кн. I, письмо X, комм. к ст. 34 «Съ волною напоенной…» (1, 453)); «Повелительное, вмѣсто станемъ пользоваться оба. His utere mecum. Сими пользуйся вмѣстѣ со мною» (кн. I, письмо VI, комм. к ст. 87 «Пользуемся» (1, 435)). Или, например, истолкования тропов Горация: «Тяжело, неискусно скакать. Медвѣдемъ пля-шетъ говоримъ о такихъ неискусныхъ танцовщикахъ. Латинское Solias terre gravis, скакать тяжелъ землѣ, изрядно изображаетъ грубые и неопрятные танцы крестьянскiе» (кн. I, письмо XIV, комм. к ст. 36 «Скакать тяжекъ медвѣдемъ» (1, 468–469)).
Комментарии Кантемира к переводу содержат множество сведений об исторических реалиях древнего мира. Приведем некоторые из них. Поясняя слово «addictus» (кн. I, письмо I, комм. к ст. 22), вот как подробно пишет переводчик:
Въ латинскомъ стоитъ: Tullius addictus jurare in verba Mâgis-tri. Аддикты въ сродномъ знаменанiи называлися должники, которыхъ преторъ отдавалъ во власть заимодавцамъ. Называли также аддиктами воиновъ, которые, вписываяся въ войско, присягу чинили своему воеводѣ; и въ семъ послѣднемъ разумѣнiи Горацiй то слово употребляетъ, чему поводъ подала рѣчь вождя въ предъидущемъ стихѣ, которая принадлежитъ къ военной службѣ. Слово Mâgister кажется больше приличествовать учителю чѣмъ военному человѣку; но извѣстно, что римляне называли коннаго воеводу Mâgister Equitum» (1, 393). Или же, говоря о социальном устройстве, поясняет непонятную для читателя обязанность «номенклатора» (книга I, письмо VI, комм. к ст. 63):
Римляне, которые чиновъ добивалися и желали достать себѣ благосклонность народа, держали всегда при себѣ рабовъ, которыхъ вся должность въ томъ состояла, чтобъ знать всѣхъ римляновъ имена и оныя господину своему сказывать, дабы сей могъ всякаго, своимъ именемъ и прозвищемъ называя, поздравить, понеже такое поздравленiе у римлянъ и у грековъ значило особливое почтенiе. Рабы тѣ называлися номенкла-торы (1, 432–433).
Объясняя стих: «Четыре иль больше часовъ занавѣска опущена…» (кн. I, письмо I, ст. 250), — Кантемир для лучшего понимания смысла этого выражения, описывает устройство занавеса в римском театре:
Аulaea называлася занавѣска, которая закрывала зрѣлище, пока комедiя не начиналася, равно какъ и теперь дѣлается, но съ тою разницею, что когда у насъ комедiи начинаются, занавѣска подымается вверхъ, а у римлянъ спускалася внизъ, на полокъ зрѣлища; а по окончанiи комедiи, или послѣ всякаго дѣйствiя, для прiуготовленiя украшенiй, подымали ее вверхъ, вмѣсто того, что мы внизъ опускаемъ. И потому значитъ опустить занавѣску, чтобъ начать комедiю, a tollere aulaea. Premere aulaea, поднять занавѣску, кончая игру. Слѣдовательно, Горацiй здѣсь говоритъ, что часто живало, что среди комедiи тотъ, кто ту народу давалъ, вываживалъ толпу дѣйствителей изображать трiумфъ (сирѣчь въѣздъ побѣдный, торжество побѣдное), которой продолжался чрезъ четыре часа и больше, такъ что между тѣмъ комедiя переставала и дѣйствители нѣмы стаивали (1, 534).
Поясняя строчку: «Напротиву же, кого Терпѣнье одѣло / Въ удвоену епанчу…», — Кантемир дает справку о видах греческой одежды и ее пошиве:
Симъ описанiемъ Дiогена Горацiй означаетъ. Греческiя епанчи были гораздо велики и широки, для того два края подолу нашивали подобраны и завязаны за плечьми пряжкою, такъ что спереди видѣнъ бывалъ полукафтанъ. Киническiе философы, которые всякой украсы убѣгая, иногда полукафтанья не нашивали, но епанчу вздѣвали сверхъ одной рубашки, удвоивали эпанчу на плечахъ, то есть дважды въ нее обвивалися (1, 489).
Такое подробное описание быта римского мира может объясняться еще и тем, что его работа над переводом совпала с новым этапом изучения древности во французской словесности, а именно с повышенным интересом к быту и обиходу древних. Например, историк Ш. Ролен присоединил к своей «Римской истории» (1738) специальные статьи, которые содержали описание быта римлян: их обычаев, досуга, одежды, блюд и т. д. Кантемир вполне мог отразить новейшее направление изучения античности в своих комментариях.
По примечаниям переводчика читатель может даже представить географию Рима времен Горация. Например, из толкования слова porticus, портик (кн. I, письмо VI, комм. к ст. 31), мы узнаем:
Porticus, портикъ , латинское слово не значитъ прямо ворота , но предворотню , которая обыкновенно составляетъ сѣни нѣкои на столбахъ. Два такихъ портиковъ Агриппа въ Римѣ состроилъ: портикъ Нептуновъ, и другой портикъ Агрипповъ, который названъ еще Портикомъ счастливой удачи , Porticus boni eventûs, лежащiй близъ Панѳеона, при входѣ Марсова поля. Горацiй здѣсь говоритъ о семъ послѣднемъ, понеже во всемъ Римѣ на то мѣсто больше сходбища людей бывало за смежностiю съ Марсовымъ полемъ, на которое, какъ на большую римскую площадь, обыкновенно схаживалися всѣ тѣ, кои себя казать желали (1, 429–430).
Особую трудность для Кантемира представлял перевод названий римских блюд и трав. Порой он не находил русских обозначений для латинских названий «зелий» и честно в этом признавался (кн. I, письмо XII, комм. к ст. 29): « Прасы , родъ суть лука, гораздо простаго но больше, и меньше остра-го вкуса. Я русскаго имени того зелiя не знаю» (1, 463). Отчасти поэтому изысканный римский стол, «забавы столовыя», вызывают насмешки переводчика, в особенности непонятные северной ментальности деликатесы из трав:
Буде можешь возлежать на старинныхъ кроватяхъ, и буде смѣешь ужинать однимъ блюдцомъ зелiй. Правду сказать, не весьма жирной ужинъ, на которомъ одно блюдцо зелiй представлено, и къ съѣденiю такого пира не много храбрости нужно; для того рѣчь смѣешь въ смѣхъ отъ Горацiя употреблена. А такiе изъ травъ умѣренные пиры у благоразсудныхъ римлянъ были въ обыкновенiи (1, 422).
Заметим, что в произведениях Горация, в том числе и в «Посланиях» действительно упоминается большое количество овощей и средиземноморских трав, труднопереводимых даже сейчас, например: порей и лук, луговой щавель, разные виды оливок, люпин, разные виды капусты, цикорий, дикая горчица, бобовые и т. д. Как пишет В. С. Дуров,
«Гораций — знаток изысканной кухни, чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на его так называемые гастрономические сатиры (2, 2 и 2, 4), в которых он со знанием дела излагает тонкости кулинарного искусства» [10, 23].
В комментариях к переводу Горация, помимо историкофилологических сведений, затрагивается масса возбуждаемых текстом вопросов морального, научного, общественного характера, в которых особую роль отвел Кантемир философским рассуждениям. Как замечает А. А. Веселовский, «galant [Гораций] Дасье обратился у Кантемира в учителя-моралиста» [4, 8]. Восторгаясь мудростью Горация, переводчик комментирует ее по-своему, стремится сделать ее полезной для читателя. Так, рассуждая о добродетели, Кантемир пишет: «Добродѣтель въ умѣренности состоитъ и отбѣгаетъ крайности, въ которыхъ злонравiя засѣдаютъ» (1, 495). Или: «…напрасно мы ищемъ истинное свое благополучiе въ зна-менитыхъ достоинствахъ и въ богатствѣ; <…> боязнь и желанiе рождается отъ того, что мы легко чудимся, легко всякимъ вещамъ дивимся <…> слѣдовательно, кто хочетъ быть истино счастливымъ, долженъ отложить то удивленiе, которое совсѣмъ противно добродѣтели, которая въ томъ состоитъ, чтобъ имѣть умъ покойный и постоянный, ничѣмъ подвижный, ни устрашаемый, ни удивляемый» (1, 426). Вслед за Горацием Кантемир говорит о пагубности страстей: «…напослѣдокъ начинаетъ уже здѣсь нравоученiе, совѣтуя отдаляться страстей и прилежать любомудрiю <…> Ибо страсти суть болѣзни душевныя, гораздо тѣлесныхъ опаснѣе» (1, 411). Сообщая, что во времена римского поэта «народъ философовъ <был> на разныя ватаги <секты> раздѣленъ» (1, 393), переводчик разъясняет их учения, попутно высказывает известные афоризмы-назидания о жизни и счастье: «…какъ человѣкъ совершенно добродѣтели преданный, не забывай сирѣчь должность честнаго, безко-рыстливаго и безпристрастнаго человѣка, однимъ словомъ, какъ строгой стоикъ »; «…секта аристипова и эпикурская то всего лучшее въ себѣ имѣла, что можно было по ихъ наукѣ все употреблять, но ничему надъ собою власть не дая» (1, 394, 395).
Обширными примечаниями, часто иронического характера, переводчик сопровождал упоминания римского классика о богах и божестве:
У многобожцевъ не одно только небо было богами набито, и адъ своихъ имѣлъ боговъ, каковъ Плутонъ и Вулканъ, Про-серпина, и многiе другiе»; «Чудесный язычниковъ вымыслъ столько къ размноженiю боговъ былъ плодовитъ, что и собственно всякаго человѣка духъ богомъ сдѣлалъ. Греки называли того бога daimon, римляне Genius, и его вѣдомству препоручали естество и жизнь человѣческую (1, 527–528).
Лаверна . Богиня покровительница воровъ и обманщиковъ; потому безъ сумнѣнiя она больше всѣхъ другихъ боговъ служителей имѣла (1, 483).
Какъ скоро стихотворцы произошли и Бахусъ ихъ причис-лилъ къ своему двору и самыя музы, богини наукъ, пьянству предалися (1, 507).
Сирены были блудницы, лицемъ весьма красныя, кои жили на трехъ островахъ Средиземнаго моря близъ Капреи, насупро-тивъ Сурента. Пѣснями и волшебствами своими мимоходящихъ къ себѣ привлекали и погружали въ сластолюбiе. Стихотворцы, по своему обыкновенiю истину басенными обстоятельствами прикрывая, сдѣлали изъ нихъ уродовъ, которыхъ отъ головы до пояса видъ прекрасной жены, а внизъ того рыба (1, 410).
Иногда Кантемир сближает мифологические существа античности с персонажами русских верований: «Сатиры и фавны. Родъ лѣсныхъ полубоговъ, Бахусу подвластныхъ; мы чаю лѣшими называемъ. Стихотворцы даютъ имъ до пояса человѣческiй видъ, отъ пояса внизъ козлиныя ноги, на лбу рога, много склонности къ женамъ и къ вину» (1, 507); «Духа твоего я употребилъ вмѣсто латинскаго per Genium. Генiусъ есть богъ язычниковъ, который имѣлъ надзирательство надъ рожденiемъ и житiемъ человѣка. Всякой человѣкъ имѣлъ своего такого божка, какъ мы въ православной вѣрѣ имѣть вѣримъ всякой своего ангела» (1, 444). Последнее сближение римского Гения и православного Ангела оригинально, у французского переводчика его нет (латинское Genius Дасье переводит французским Génie). Однако далеко не всегда Кантемир ироничен в рассуждениях о божествах: «Небесная мудрость. Древные философы, какъ мы, увѣрены были, что истинная мудрость отъ Бога съ небесъ прихо-дитъ» (1, 418); «Древнiе генiю или духу то правительство препоручали, понеже въ самомъ дѣлѣ умъ, духъ человѣка всю жизнь его правитъ больше чѣмъ сила положенiя звѣздъ при рожденiи» (1, 557). Наконец, в примечаниях находим сокровенные размышления и признания переводчика: «Тщетные были труды естествословцовъ въ рѣшенiи сего вопроса. Ихъ толкованiя всегда будутъ не удовольствительны и всегда будетъ неизбѣжно признавать, что Богъ, собравъ воды и оградивъ ихъ землями, предѣлъ имъ положилъ, его же не прейдутъ» (1, 462).
Комментарии вмещают в себя даже астрономические сведения, которые Кантемир умело добавляет к толкованию го-рациевых стихов. Здесь мы находим замечания о вращении вокруг солнца, о движении звезд и других небесных тел, о лунных затмениях, о свойствах четырех элементов (воздуха, воды, огня и земли): « Блудятъ относится къ планетамъ, которыя за собственнымъ своимъ и земнымъ движеніемъ кажутся имѣть теченiе весьма безпорядочное»; «Отъ чего бываютъ четыре различныя года времени? Солнце то произ-водитъ своимъ приближенiемъ и отдаленiемъ отъ экватора; зимою находится оно въ крайнемъ отдаленiи; лѣтомъ въ крайнемъ къ намъ приближенiи. Астрономiя тому насъ пространно учитъ»; «Можно такъ же разумѣть то о затмѣнiяхъ лунныхъ, когда тѣнь земли отымаетъ ей свѣтъ солнечный, и тѣ затмѣнiи иногда больше, иногда меньше по разстоянiю луны отъ земли и по углубленiю ея въ тѣнь земли» (1, 462).
В комментарии Кантемир включает даже описания болезней и способов их лечения (!), пользуясь удобным для этого случая стихом. Вот, к примеру, описание «подагры» (кн. I, письмо II, комм. к ст. 64): «Подагра, болѣзнь знакомая, которая чувствительна жестокимъ ломомъ и опухолью въ но-гахъ. Терпѣнiе и теплота лучшее противъ нея лѣкарство, всѣ прочiя мало пользуютъ» (1, 413).
По примечаниям можно также судить о том, как Кантемир переосмысливал поэтические образы Горация, некоторые толкования особенно интересны неожиданной трактовкой горацианских сравнений. Например, в комментарии к 3 стиху первого письма, поясняя сравнение Горацием самого себя с гладиатором, переводчик уподобляет поэтов не только борцам, но и подвижникам:
Изрядно Горацiй соравняетъ лирическое стихотворство боевому позорищу, и Стихотворцовъ единоборцамъ или под-вижникамъ. Какъ единоборцы не должны были старѣть въ позорищи, понеже за истощенiемъ силъ никакого увеселенiя зрителямъ тогда подать бы не могли, такъ и лирической стихо-творецъ долженъ заблаговременно отъ своего ремесла отстать, чтобъ не потерялъ въ старости славу, которую прежнихъ лѣтъ удача ему доставила (1, 391).
Толкование горациева гладиатора как подвижника кажется смелым, поскольку слово подвижник в русском языке употреблялось прежде всего в духовном значении. В словаре И. И. Срезневского читаем: «Подвижьникъ — совершитель великаго и труднаго дѣла»9. Однако словоупотребление проясняется, если иметь в виду, что Кантемир перевел таким образом примечание Дасье: «…et les Poètes à des Athlètes, à des Gladiateurs»10. В неоконченном «Русско-французском словаре Антиоха Кантемира» к слову подвижник дается перевод: Athlète11. При подобном переводе Кантемир мог ориентироваться на французскую традицию осмысления христианской аскетики. Сравнение христианских подвижников с языческими атлетами восходит к французскому переводу Лувенской Библии (1550) стиха апостола Павла: «…всяк под-визаяйся отъ всѣхъ воздержится» (1 Кор. 9:25) — «tous les athlètes gardent en toutes choses». Схожим образом во французско-русском «Лексиконе» И. И. Татищева к статье Athlètes приводится французский оборот «Les athlètes de la foi» с переводом: «поборники по вѣрѣ, мученики»12. Показательно, что в комментарии к следующему, 4 стиху, Кантемир добавляет, что по аналогии хотел бы передать латинское ludus (публичные зрелища, игры) словом «подвиг», но все-таки «позорище нравнее»: «Въ прежнее позорище Antiquo Ludo. Ludus называлося мѣсто, площадь та, гдѣ единоборцы отправляли бой свой. Подвигомъ чаю можно бы назвать, буде позорище ненравнѣе» (1, 391). К слову сказать, греческое слово ἀγών означает место собрания, место состязания или игр, равно как и труд, исполненный борьбы13. От него произошло и греческое ἀγωνιστής — состязающийся на общественных играх, защитник в суде, борец на сцене, актер (в латинской Вульгате — qui in agone contendit), передающее упомянутый выше стих апостола Павла. Так, употребив в комментариях слово подвижник в сопряжении с участью поэта, Кантемир сразу расширил жестокое горациево сравнение поэта с гладиатором, внеся в него духовную составляющую.
Сложно с достоверностью сказать, каким именно изданием произведений Горация пользовался Кантемир при переводе. Однако, согласно описанию Е. Э. Бабаевой, перечислившей состав библиотеки А. Кантемира, это могло быть переиздание 1727 года, предпринятое известным французским переводчиком и комментатором Андре Дасье. По крайней мере, оно есть в библиотеке сатирика: «Как полагает Г. Грасгоф, исследовавший состав библиотеки А. Кантемира, большую часть книг А. Кантемир приобрел по пути в Англию, в Гааге. А. Кантемир имел в своем распоряжении комментированное издание сочинений Горация, подготовленное секретарем французской Академии наук Андре Дасье» [2, 18]. Это было издание en regards, с параллельными французским и латинским текстом и историко-критическими комментариями 14 . Исторический комментарий к переводу Кантемир почти буквально переносит из примечаний Дасье, целыми фрагментами. Однако нельзя говорить о полном их копировании, поскольку, во-первых, он значительно их сокращает, а, во-вторых, разбавляет собственными рассуждениями и сведениями. Это сокращение дает возможность поместить примечания под текстом русского перевода в конце страницы, тогда как в изданиях Дасье примечания концевые и огромны по сравнению с самим текстом (1:70 по соотношению слов). Интересно, что комментарии к оригинальным своим произведениям (например, к «Сатирам») Кантемир помещал в конец, а вот к переводным («Разговор о множественности миров», к переводу Анакреонта) делал подстрочные примечания.
Рассмотрим, какие сокращения делает переводчик в используемых им комментариях Дасье. Первым примечанием Кантемира перед каждым Письмом является так называемая преамбула, краткий пересказ содержания. Идею краткой статьи переводчик заимствует у Дасье, но существенно сокращает это вступление: у французского издателя оно занимает до нескольких страниц, у Кантемира, — как правило, один абзац. Некоторые преамбулы совсем короткие, в несколько строк, однако достаточные, чтобы выразить содержание и нравственную идею послания. Например, вступление к Письму III таково:
Горацiй пишетъ къ Юлiю Флору, какъ бы желая вѣдать, что дѣлается при дворѣ Тиберiевомъ, которой по указу Августову отъѣхалъ было къ востоку съ сильнымъ войскомъ. Но прямое его намѣренiе есть изъяснить, сколь ему предосудительны сребролюбiе и высокомыслiе, и увѣщавать его, чтобъ жилъ въ согласiи съ братомъ своимъ (1, 415).
Следующее, что сокращает Кантемир, это длинный ряд ссылок на предшествующих комментаторов Горация, которых у Дасье очень много. Но сам он очень часто ссылается на Дасье и даже как будто подчеркивает правильность его толкований в таком духе: «Связность сего мѣста съ предъидущимъ не легко усмотрѣть. Дасiеръ изрядно изъясняетъ, говоря, что Горацiй…» (1, 457). Сокращение ссылок на прочих комментаторов Горация, вероятно, можно объяснить снисхождением к русскому читателю, мало знакомому с европейской традицией толкования Горация. Не совсем ясно другое сокращение, а именно, намеренное умолчание имен других древних поэтов и цитат из них. Ведь имя Вергилия, например, должно было быть известно, по крайней мере, ученикам Славяно-греко-латинской академии. Единственное исключение составляет имя Эзопа, вероятно, потому что был хорошо известен на Руси еще по рукописной традиции. Достаточно вспомнить, что Эзоп упоминается еще в древнерусском памятнике «Пчела» (XII в.), а наиболее ранний перевод его басен — «Притчи, или баснословие, Езопа Фриги» — выполнен уже в 1607 году15. Имена древних философов Кантемир сохраняет, но только тех, которые упоминаются у самого Горация, прочие имена из комментариев Дасье опущены.
Однако Кантемир, перенося примечания Дасье, не только сокращает, но и наоборот, иногда распространяет их объяснениями исторических имен, которые, по мнению переводчика, мало известны русскому читателю. В этом смысле показательны пространные комментарии Кантемира о Меценате (кн. I, письмо I, комм. к ст. 1) и Лукулле (кн. I, письмо VI, комм. к ст. 51). О Лукулле он пишет так:
Кто желаетъ быть богатымъ, не довольно ему имѣть всѣ вещи нужныя и ничего не лишиться; нужно всего имѣть въ такомъ обильствѣ, чтобъ не мало того было и про себя и про воровъ, и чтобъ и самому тѣхъ своихъ вещей счоту не знать. Такова здѣсь Горацiй показываетъ Лукулла, который прошенъ будучи, чтобъ ссудить для одной комедiи сто багряницъ, или багряныхъ епанчей, чаялъ, что не можно ему имѣть у себя такое великое число, но потомъ нашолъ у себя пять тысячъ. Лукуллусъ былъ благородiемъ, сладкорѣчiемъ и богатствомъ знатный римскiй воевода, надъ Африкою правительствовалъ правосудно и надъ Митридатомъ не одну побѣду одержалъ (1, 432).
Подробные объяснения Кантемира, отсутствующие у Дасье, с одной стороны, и усечение чересчур сложных комментариев французского издателя — с другой, по мнению Н. Ю. Алексеевой, показывают нам уровень образованности русского читателя начала XVIII века: «В незаимствовании Кантемиром у Дасье можно увидеть фигуру умолчания, красноречиво говорящую об уровне русского читателя (студента), к которому адресовался Кантемир, или о его мнении о русском читателе. <…> Уровень образованности русского читателя, во всяком случае, каким он виделся Кантемиру, угадывается не только по изъятым им местам из примечаний Дасье, но и по его нередким дополнениям к ним» [1, 17–18].
Кроме переноса комментариев Дасье, при составлении примечаний Кантемир добавлял, конечно, свое, почерпнутое, по мнению А. А. Веселовского, в том числе и из старинных Азбуковников и Космографий [4, 8], распространял примечания философско-моральными рассуждениями, сведениями из разных областей науки.
По свидетельству А. А. Веселовского, обширное издание Дасье не избегло обычного недостатка изданий того времени, когда возможно было самое вольное отношение переводчика к оригиналу. Во французском переводе Гораций трактовался как galant, philosophe courtisan, l’homme du monde, завсегдатай французских салонов. Римская жизнь соответственно освещалась с этой точки зрения и, видимо, отражала жизнь парижских салонов и французского общества. А. А. Веселовский саркастически замечает: «Еще со времен ложно-классиков классический Рим стал городом преимущественно французским: принцы, короли, министры, генералы, пажи, лейтенанты, grandes dames и куртизанки, напудренные, завитые, больше все в костюмах Людовика XIV-го, населяли его; осталась одна чернь не у места, искони презираемая — indignabile vulgus. Это был Рим, условный, литературный, одержавший, однако, победу над мировой литературой» [4, 4]. Можно предположить, что указанная черта французского перевода могла косвенно повлиять и на особенность перевода Кантемира, поскольку текст перевода дает множество примеров «русификаций» латинского автора. Кантемир, следуя принципу, который позже, в 60-х годах XVIII века назовут «теорией склонения на наши нравы», сближает горацианский мир с чертами русского быта. На страницах перевода возникают самые пестрые костюмы и уборы, принадлежащие разным эпохам и странам.
При всем стремлении к соответствию перевода оригиналу, перевод «Писем» не эквилинеарен и по объему значительно превышает латинский текст. Превышение может достигать до 1/ 3 объема подлинника. Например: в Письме I соотношение оригинала с переводом Кантемира составляет 108 строк к 147, в Письме XIII — 19 к 29 стихам. Важно отметить, что расширение текста перевода происходит не по причине намеренных «украшений» и перифраз. Перевод увеличивается за счет разъяснений, своеобразных поэтических комментариев внутри самого текста. Можно сказать, что
Кантемир напряженно стремится к избыточности перевода, заботясь, видимо, о доступности его для читателя.
А. А. Дерюгин предположил, что, стремясь к дословному переводу, Кантемир мог ориентироваться также и на издания немецких переводчиков, практиковавших публикацию буквальных переводов как пособий для изучающих иностранные языки [9, 29–30]. Подобная утилитарно-педагогическая цель подтверждается самим переводчиком:
Въ многихъ мѣстахъ я предпочелъ переводить Горацiя слово отъ слова, хотя самъ чувствовалъ, что принужденъ былъ къ тому употребить или слова или образы рѣченiя новые и потому не вовсе вразумительные читателю, въ латинскомъ языкѣ не искусному <…> я предпріялъ переводъ сей не только для тѣхъ, которые довольствуются просто читать на русскомъ языкѣ Письма Гораціевы, по латински не умѣя; но и для тѣхъ, кои учатся латинскому языку и желаютъ подлинникъ совершенно выразумѣть (1, 386).
Перевод «Посланий» Горация может представлять интерес и с точки зрения жанра. Дело в том, что выполненный перевод и, возможно, даже сам выбор переводимого сочинения, равно как и оригинальные стихотворные «Письма» сатирика, способствовали возникновению классицистического жанра стихотворной эпистолы, ориентированной на античную эпистолярную традицию. М. Ю. Люстров справедливо полагает, что, выполняя перевод «Посланий» Горация, Кантемир сознательно вводит в русскую литературу эпистолярные правила античности: «Переводя эпистолы Горация, Кантемир прививает российской поэзии эпистолярные правила античности, делает произведения римского поэта фактом русской литературы» [12, 156].
В целом, комментарии Кантемира включают разные типы примечаний. Во-первых, это собственно филологический комментарий, то есть толкование образов и художественных оборотов латинского текста, лингвистические объяснения не только латинских трудных мест, но и оборотов и новых русских словосочетаний, вводимых Кантемиром для перевода. Во-вторых, примечания содержат реальный (исторический) комментарий, полно раскрывающий для русского читателя картину античного мира. Интересный пласт комментариев относится к русской исторической действительности: он вводится Кантемиром для пояснения античных реалий с помощью соответствий из русской жизни постпетровского времени. Кроме того, в примечания Кантемир поместил множество сведений энциклопедического характера, от новейших сведений по астрономии до способов лечения болезней. Наконец, особый вид комментариев составляют рассуждения Кантемира философско-этического характера, которые он умело присоединяет к разъяснениям, например, античных философских учений.
Таким образом, переведенные А. Д. Кантемиром «Послания» Горация — одно из первых в русской литературе XVIII века комментированных изданий этого античного автора. Комментарии русского сатирика к переводу «Посланий» Горация — выдающийся памятник переводческой практики начала XVIII века, обозначивший глубоко научный, филологический подход к переводу.
Примечания
* Исследование выполнено по гранту Министерства образования и науки России «Новые источниковедческие и текстологические исследования русской словесности XIX–XX вв.» (№ 34.1126).
-
1 Сочиненiя, письма и избранные переводы князя Антiоха Дмитрiевича Кантемира. Съ портретомъ автора, со статьею о Кантемирѣ и съ примѣчанiями В. Я. Стоюнина / ред. изд. П. А. Ефремова. Т. I: Сатиры, мелкiя стихотворенiя и переводы въ стихахъ. СПб.: Изд-е И. И. Глазунова, 1867. С. 384. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием тома и номера страницы в круглых скобках.
-
2 Авторизованная беловая рукопись перевода «Посланий» хранится в Российской национальной библиотеке (РНБ. Q XIV. Л. 1).
-
3 О рукописях Кантемира см.: [8].
-
4 Кантемир А. Собрание стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1956. 544 с.
-
5 Oeuvres d’Horace en latin et en français avec des remarques critiques et historique par André Dacier: V. 1‒9. A Hambourg, De l'Imprimerie d'A. Vandenhoeck, libraire à Londres, 1733.
-
6 Сочиненiя, письма и избранные переводы князя Антiоха Дмитрiевича Кантемира. Съ портретомъ автора, со статьею о Кантемирѣ и съ примѣчанiями В. Я. Стоюнина / ред. изд. П. А. Ефремова. Т. II: Сочиненiя и переводы въ прозѣ, политическія депеши и письма. СПб.: Изд-е И. И. Глазунова, 1868. С. 384. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием тома и номера страницы в круглых скобках.
-
7 Марк Юниан Юстин — римский историк III века, автор «Эпитомы сочинения Помпея Трога “История Филиппа”» — извлечения из не дошедшего до нас обширного исторического труда в 44 книгах более раннего римского историка I века Помпея Трога «Historiarum Philippicarum».
-
8 РНБ. Q. IV.382. Л. 2 об.
-
9 Срезневский И. И. Материалы для исторiи словаря древнерусскаго языка по письменнымъ памятникамъ. СПб.: Типографiя Императорской Академiи Наукъ, 1902. Т. 2. Стб. 1033.
-
10 Oeuvres d’Horace en latin et en français… Vol. 8. P. 30.
-
11 Русско-французский словарь Антиоха Кантемира. М.: Азбуковник, Языки славянской культуры, 2004. Т. 2: П–У. С. 889.
-
12 Полной французской и россiйской лексиконъ, съ послѣдняго изданiя Лексикона Французской академіи на Россiйской языкъ переведенный. Второе изданiе, рачительнѣйше сличенное съ фран-цузскимъ оригиналомъ, исправленное и дополненное статскимъ совѣтникомъ И. Татищевымъ. СПб.: Имп. тип. у И. Вейтбрехта, 1798. Т. 1: А–К. С. 120.
-
13 Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. Репринт V-го издания 1899. М.: Изд-во «Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина», 2006. С. 16.
-
14 Oeuvres d’Horace en latin et en français…
-
15 См.: Тарковский Р. Б., Тарковская Л. Р. Эзоп на Руси: век XVII: Исследования. Тексты. Комментарии. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2005. 545 с.
Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russian Federation)
Список литературы Жанр комментариев А. Д. Кантемира к его переводу "Посланий" Горация
- Алексеева Н. Ю. Примечания Антиоха Кантемира к «Письмам Горация»//XVIII век. Сб. 27: Пути развития русской литературы XVIII века. -СПб.: Наука, 2013. -С. 5-25.
- Бабаева Е. Э. Кантемир-энциклопедист: к постановке вопроса//Русский язык конца XVIII -начала XIX века. Вопросы изучения и описания. Сборник 3/отв. ред. В. М. Круглов. -СПб.: Наука, 2009. -С. 7-38.
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. -М.: Искусство, 1979. -423 с.
- Веселовский А. А. Кантемир -переводчик Горация (Классический мир в представлении русского писателя первой половины XVIII века)//Отдельный оттиск из Известий отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. XIX. Кн. 1. -Петроград: Типография Императорской Академии наук, 1914. -17 с.
- Гаспаров М. Л. Записи и выписки. -М.: Новое литературное обозрение, 2001. -416 с.
- Гершкович З. И. Примечания//Кантемир А. Д. Собрание стихотворений. -Л.: Сов. писатель, 1958. -С. 431-525.
- Глаголева Т. М. Материалы для полного собрания сочинений А. Кантемира//Известия отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. -1906. -Т. XI. -Кн. I. -С. 177-217.
- Градова Б. А. Рукописи А. Д. Кантемира//Источники по истории отечественной культуры в собрании и архивах отдела рукописей и редких книг. -Л., 1983. -С. 17-33.
- Дерюгин А. А. Тредиаковский -переводчик: становление классицистического перевода в России. -Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1985. -189 с.
- Дуров В. С. Незнакомый Гораций. -СПб.: СПбГУ, Филологический факультет, 2015. -108 с.
- Любимов Н. Перевод -искусство. -М.: Сов. Россия, 1982. -128 с.
- Люстров М. Ю. А. Д. Кантемир и рождение эпистолярной традиции в русской поэзии XVIII века//Антиох Кантемир и русская литература. -М., 1999. -С. 154-163.
- Моисеева Г. Н. Спасо-Ярославский хронограф и «Слово о полку Игореве». -Л.: Наука, 1977. -96 с.
- Николаев С. И. Трудный Кантемир. (Стилистическая структура и критика текста)//XVIII век. Сб. 19. -СПб., 1995. -С. 3-14.
- Фролов Э. Д. Русская наука об античности: историографические очерки. -СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2006. -608 с.
- Brunot F. Histoire de la Langue française dès origines à 1900. T. VI. Le XVIIIe siècle. Deuxième partie. La langue postclassique. -Paris, 1932. -P. 886-895.