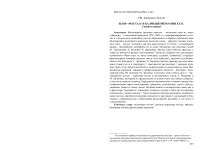Жанр "магтал" в калмыцкой поэзии ХХ в. Статья вторая
Автор: Ханинова Римма Михайловна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 3 (62), 2022 года.
Бесплатный доступ
Фольклорная традиция магтала - величания коня из эпоса «Джангар» - в калмыцкой периодике 1930-1940-х гг. трансформировалась в стихах и стихах-песнях калмыцких поэтов, обращенных к образам собственно коня (богатырского волшебного аранзала), железного коня - трактора, позднее стального коня - поезда. Элементы магтала присутствуют в стихах с упоминанием машин / автомобилей, комбайнов, но их реже обозначают как железных коней (К. Эрендженов, Б. Буханков, Б. Дорджиев). Магтал коню (обычно аранзалу, с таким же именем) в рамках стихотворения / песни не сохраняет все структурные особенности общих мест из эпоса (описание, седлание, движение), а передает фрагментарное описание красоты, масти, бега животного, трудовых или боевых качеств (П. Джидлеев, С. Эрдюшев, Л. Хонинов). Магтал трактору как железному коню («тѳмр күлг») и трактористу / трактористке как всаднику / всаднице отражает мощь, силу, работоспособность, неприхотливость, выносливость, реже цвет механизма (красный, черный) и профессионализм водителя - богатыря / богатырской девы (М. Хонинов, М. Эрдниев). Стальному коню («болд күлг») - пассажирскому поезду - адресован магтал в послевоенных стихах Л. Инджиева и М. Хонинова, подчеркнуто превосходство стального коня над живым собратом, в том числе сюжетно (скачка). Параллелизм механического и живого передан без гиперболизации через сопоставление, сравнение, уподобление, эпитет (металл, движение, скорость, мощь, звуки). Функция живого и механического коня, как и в фольклоре, сохраняется: помощник человека в трудах и боях при построении социализма и защите родины. Такие авторские магталы-величания отличаются сюжетностью, противопоставлением прошлого и настоящего в калмыцкой степи, связью с современностью, соблюдением фольклорной традиции, в том числе в стихосложении.
Калмыцкая поэзия, газетная периодика магтал, аранзал, машинная техника, фольклорная традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/149141344
IDR: 149141344 | DOI: 10.54770/20729316-2022-3-435
Текст научной статьи Жанр "магтал" в калмыцкой поэзии ХХ в. Статья вторая
Традиционным жанром «магтал» («восхваление») калмыцкие поэты на страницах газетной периодики 1930-1940-х гг. с воодушевлением отразили современную им действительность, откликнувшись, как и другие советские поэты, на трудовые и героические события эпохи, связанные с построением социализма в стране [Ханинова 2022, 413-429], покорением воздушного пространства, беспосадочных дальних перелетов через континенты, моря и океаны, освоением Северного и Южного полюсов с помощью первых советских ледоколов, самолетов. Для бывших кочевников, основным средством передвижения которых являлся конь, самолет, например, стал воплощением эпического крылатого коня аранзала, преодолевающего вместе с богатырем пространство и время в полете.
Для фольклора монголоязычных народов, в том числе для калмыцкого героического эпоса «Джангар», характерны магталы - величания героя, его коня, боевого оружия. В той или иной степени в связи с типологией сюжетов и мотивов они рассмотрены и в трудах современных ученых [Биткеев 1990; Кичиков 1976, 1996; Неклюдов 2019; Овалов 2004, 2008; Пюрвеева 2004, Рифтин 1982, 2008; Бахадырова 2004 и др.].
Коню, как боевому спутнику богатыря, уделено особое внимание в эпосе «Джангар». По словам А.Ш. Кичикова, «конь - герой в той же мере, как и баатыр, его владелец: все его героические подвиги совершаются благодаря коню-богатырю. <.. .> Описание богатырского коня и его бега, на что употребляются самые яркие краски и поэтические средства и приемы, в чрезвычайно развернутом виде присутствуют во всех версиях и песнях. <...> Главным, важнейшим среди знаменитых коней в эпической Бумбе в представлении рапсодов является конь владыки Джангара, который, в отличие от других коней, носит неизменный эпитет аранзал (арънзъл)» [Кичиков 1976, 89]. Арнзл - волшебный богатырский конь [Калмыцко-русский словарь 1977, 50]. «Аранзал Зээрэд принадлежит к особой породе отборных лошадей, табун которых эпос изображает как самое ценное достояние Бумбайского государства и Джангар-хана. <...> Джангарчи утверждают, что из всех богатырских коней аранзалами являются только два: аранзал Зээрэд Джангара и Аксаг-Улан Алтан-Чээджи. <...> По-видимому аран-залы не относятся к числу земных скакунов, каковыми мыслятся остальные знаменитые кони-герои» [Кичиков 1976, 90, 93]. Действительно, «бег коня, сравниваемый с полетом птицы, часто изображается как сам полет (вспомним, что богатырские скакуны, согласно архаической традиции, часто снабжены крыльями: “Распластав крылья, с шумом летел Пониже облачного неба, Повыше островерхих деревьев...” [Жангар 1980, 157, 206, 487]. <...> Перемещение богатыря синьцзян-ойратской традиции часто воспринимается как непрерывно длящийся “полет”, о котором говорится: “Днями не отдыхая, Ночами не ночуя” [Жангар 1980, 542] (формулу “Днем не дневал, ночью не ночевал” мы находим в калмыцком “Джангаре”, где она включается в стилистику описания бега коня [Козин 1940, 217])» [Кичиков 1997, 261]. Архаические мотивы, когда конь может вдруг обрести крылья и подняться в воздух, по мнению Н.Ц. Биткеева, свидетельствуют о мифологических осколках в сюжете эпического повествования, подтверждая древность эпоса «Джангар» в записях XIX в. [Биткеев 1999, 52]. Отмечено, что «кони калмыцких богатырей получают имена по их мастям: арънзъл Зээрэд - “Аранзал Рыжий (Рыжко)” <...> Эти имена-масти настолько прочно утвердились за конями соответствующих богатырей, что все версии “Джангара” в этом отношении едины: по коням узнают богатырей и наоборот» [Кичиков 1976, 96]. С.Ю. Неклюдов подчеркнул: «К числу чудесных помощников героя относится и его богатырский конь, не только описываемый гиперболизированно (масть, облик, седло, уздечка и т.д.), но и обладающий сверхъестественными свойствами: способностью давать мудрые советы, изъясняясь человеческим голосом, способностью к превращениям, умением летать, преодолевать границы времени и пространства...» [Неклюдов 2019, 99]. «Сразу бросается в глаза, что у монгольских сказителей описание начинается с коня, а потом уже описывается сам мужественный военачальник. Это явно связано с особым отношением монголов к коню как основному средству передвижения и коннице как основной силе на поле сражения», - считал Б.Л. Рифтин [Рифтин 2008, 130].
Магтал-величание коня-аранзала в калмыцкой поэзии XX в.
К подобному магталу коню в калмыцкой поэзии XX в. следует отнести стихотворение-песню Пюрви Джидлеева «Улан цергчин арнзл (дун)» («Аранзал красноармейца (песня)», 1938), где дается подробное описание скакуна с восхвалением его стати, головы, павлиньей шеи, красивой гривы, шелковистого хвоста, звонких копыт во время бега. Например: «Тохад, сееЬэд оркхнь, / ТолБаБан зээлж наадна. / ТоБстн болен кузунь / ТолБаБинь дахж; цорхтна... <.. .> ТорБн сээхнь суулнь / Тунтрж; арднь саглрна, / Эрвц С99хн делнь / Эрвлзж; салькнд делено» (Тексты на латинице везде даны в соответствии с языковой реформой на кириллице. - Р.Х.) [Жщдлэн 1938, 2] («Когда, оседлав, привяжешь, головой, качая, играет. Шея, подобная павлиньей, в такт голове движется. Шелковистый красивый хвост позади пучком пушится, прекрасная грива развевается на ветру»), (Здесь и далее наш смысловой перевод. - Р.Х.). Ср.: «В описании боевого коня красота шеи сравнивается с красотой лебединой шеи (“хун ут кузутэ”)...» [Пюр-веева 2003, 210], уподобление конской шеи лебяжьей есть и в каракалпакском дастане «Коблан» [Бахадырова 2004, 269]. Калмыцкая поговорка гласит: «Мерто кун живртэлэ эдл. У кого конь, у того и крылья» [Калмыцко-русский словарь 1977, 360]. Быстрота и скорость коня традиционно сравнимы с полетом птицы: «Шпорар запад, дэвхнь / Шовун метэр ниснэ» («Стоит пришпорить, летит, словно птица»), с уточнением: «Хурдн арнзл-Балзгчнарн / Харада метэр нисхв» [Жидлэп 1938, 2] («Быстрый аранзал с небольшой лысиной полетит, точно ласточка»). Ср. в Малодербетовском цикле «Джангара» при посадке всадника: «Орм дундан тусад, / Йилвин негэр бухад одв» («До небес [скакун] взметнулся / И, на землю опускаясь, / С силой взбрыкнул») [Калмыцкий героический эпос 2020, 284, 285]. «Хороший скакун, по наблюдениям калмыков, имел тридцать три приметы» [Пюрвеева 2003, 196]. В то же время в этом магтале Джидлеева нет традиционного эпического величания коня в расчлененном описании, т.е. «по частям» - головы, туловища, ног [Рифтин 1982, 70-71], гиперболизации. Подчеркнуты боевые качества коня: «Угзрж; гуудг Балзгчм / Уудан кемлж; бухна. <...> Арнзл хурдн Балзгчнарн / Атаглж; ешэтнртэ серглцнэв. <...> Дээсрхсн андн нохасиг / Дорк ормднь чавчхв» [Жидлэп 1938, 2] («Рывком бегущий мой [конь с лысиной] грызет удила. <.. .> На быстром аранзале с лысиной смогу отразить вражью атаку. <.. .> Вражеских бешеных собак на месте изрублю»), А о самом всаднике-красноармейце в начальных строках песни известно, что на его шапке блестит красивый значок (пятиконечная звезда на буденновке): «Мандлгсн корккн значокм / Махла деерм гилвкнэ» [Жидлэп 1938, 2]; использована безэквивалентная лексика: «значок».
В довоенной калмыцкой поэзии, независимо от того, в какой род войск призывался новобранец, упоминался конь, чаще как аранзал. Например, красноармеец Михаил Хонинов начинал стихотворение «Орн-нутган харе!» («Защищай свою страну!», 1939) с того, что отправился в Красную армию на аранзале вслед за старшим братом: «Ахиннь ардас / Аранзлан унув» [Хоньна М. 1939, 2]. Служил же он в Забайкальском военном округе в пехотном полку, добирался из Элисты туда, конечно, на машине и поездом. Ср. в «Песне, адресованной другу» («Иньгтэн нерэдсн дун», 1938) Бадма Буханков от лица подруги призывника писал: «Авто, авто машинь / Авад иньгим Барна» [Буханкин 1938, 4] («Авто, автомашина увозит моего друга»).
Ср. в послевоенной поэме «Аранзал» (1969) М. Хонинов главным героем сделал коня по имени Аранзал, на котором лирический субъект прошел всю войну и вернулся домой. На самом деле, в партизанском отряде в Белоруссии поэту пришлось в боях-переходах использовать и коней, о чем остались свидетельства и воспоминания очевидцев. В поэме знаменитый конь из эпоса «Джангар» словно передал эстафету своим потомкам, принявшим участие в Отечественной войне 1812 г, в Гражданской войне, в Великой Отечественной войне: «Аранзал легендарный из “Джангра” - / Давний предок коня моего» (пер. А. Кронгауза) [Хонинов 1972, 75]. Определение «золотой Аранзал» отсылает к масти эпического коня - рыжий. Здесь то же сравнение с птицей, с орлом: «Он парил золотистою птицей / Над землею, / Подобен орлу. / Грива мягкая спелой пшеницей / Развевалась на летнем ветру» [Хонинов 1972, 75], его мощь передана через бешеную скачку: «В обе стороны падали травы / От крутого дыханья его» [Хонинов 1972, 78]. См. в эпосе бег Кёке Галзана, коня Алого Хонгора Прекрасного: «Нэрн овенд нээхлэд, / Кудр овенд будрэд...» («По мягкой траве, как по волнам, он мчался, / По жесткой траве, спотыкаясь, он мчался...») [Калмыцкий героический эпос 2020, 336, 337]. Или: «Хойр талан шуукрлБнд Базрин овен / Хойр талан эгрэд... <.. .> От его горячего дыхания трава на земле / По обеим сторонам засыхает» (цит. по: [Овалов 2004, 122]). Так же, как в эпосе, конь спасает всадника в сражении: «Он однажды на поводе длинном / Меня выволок из-под огня» [Хонинов 1972, 78]. Время и пространство в произведении сжимается, как в эпосе, благодаря коню, сопровождающему воинов на их боевом многовековом пути. Ср.: «Арнзл Зеерд у Болыг нег ишкэд жицнв, / Жила Базриг / Сара дундан авад, / Сара Базриг / Хонга дундан авад хурдлв» («Аранзал Зерде широкую реку махом одним преодолев, / Путь годовой / За месяц преодолевая, / Месячный путь / За сутки преодолевая, мчался...») [Калмыцкий героический эпос 2020, 320-322, 321-323].
Магтал колхозным коням в стихотворении Санджи Эрдюшева «Алтн Ьалзн» (букв. золотой лысый) опирается на величание богатырских коней из эпоса «Джангар» (упоминается и Аранзал). В сюжете встреча лирического субъекта с молодым табунщиком показана монтажом разных планов: вначале дальний, когда, как в эпосе, вдалеке поднимается пыль под конскими копытами. «Хурин хар уулм! - / Холд деер ервкв, / Хурдн кулгин то-осмб! - / Хутхлж; йовснь узгдв» [Эрдушэ 1940, 4] («Дождевая черная туча! Вдали вверху колышется. Столб пыли от быстрого скакуна! Вот [конь] показался»), Основной план - ближний, крупный: «Удсн уга дарунь / Уудын дун Х9ЦКНВ, / Шурун тиим гуудлэр / Шуе гисэр ирв. // Алтн Ьалзн кулгнь / Агсрж; бухад йовна, / Баахн ковун деернь / Батле гиЬэд сууна» [Эрдушэ 1940, 4] («Вскоре раздался звук удил, таким крепким бегом [конь] быстро приблизился. Золотистый конь с лысиной резво скачет, юноша прочно сидит верхом»). Лирический субъект не задается в этот раз вопросами, чей это конь, чей это сын, потому что знает, что этот быстрый скакун - из колхозного племенного табуна, а по посадке в седле узнает своего младшего товарища. При рукопожатии людей конь пугается, ведет себя беспокойно, взбрыкивает, но всадник умело усмирил его: «Килц бурэстэ жолаг / Кисж; бэрэд татв. / Урньдсн кулгиг залад / УуЬар эргж; зогсв» [Эрдушэ 1940, 4] («Подтянув поводья, сделав широкий круг, остановил своенравного коня»). Тандем коня и всадника вызывает восхищение, желание встретиться с теми, кто растит таких аранзалов. Завершая свой магтал, поэт с гордостью подтверждает преемственность поколений, в победоносной степи растут аранзалы, а в состоятельной колхозной семье рождаются богатыри, прославленные своим мужеством в защите страны: «Диилвртэ колхозин теегт / Дугтргсн зеердс оснэ. <...> Баахта колхозникуд булд / Баатрмуд терж; Ьарна. / Орн-нутган харехд / Омг зоргэр туурна» [Эрдушэ 1940, 4].
Магтал-величание железного коня-аранзала в калмыцкой поэзии XX в.
В иерархии новых средств передвижения и труда бывших кочевников вначале были машина, трактор, комбайн, освоение которых стало насущной задачей времени для построения социализма в стране. Так, Лиджи Инджиев в названии стихотворения «Шин машид - шин кергуд» («Новые машины - новые свершения», 1933) [Ипжип 1933, 1] вывел формулу современной жизни. В «Марше калмыцких стахановцев» («Хальмгин стахановцнрин марш», 1936) Константина Эрендженова звучит обращение к машине, чтобы она быстрее доставила ударников труда в Москву на слет передовиков народного хозяйства: «Эрлзич, машин, эрлзич, / Эрт Москвадм кургич» [Эрпжэпэ 1936, 4] («Мчись, машина, мчись, поскорее в мою Москву доставь»). Характерно, что калмыцкие поэты обычно не конкретизируют описание машин - тех же автомобилей, грузовиков, реже называют их железными конями в отличие от тракторов. В калмыцкой загадке о машине есть сравнение с конем: «Мерн биш хурдн, махмуднь болхла темр. Не конь, а быстроногий, и тело из железа» [Калмыцко-русский словарь 1977, 360].
Самым частотным в довоенной калмыцкой поэзии стало величание трактора. Декрет «О едином тракторном хозяйстве», подписанный В.И. Лениным в 1920 г., способствовал созданию и выпуску колесных и гусеничных тракторов для страны: вспашка земель, перевозка грузов, строительство дорог и зданий и т.д. Л. Инджиев в стихотворении «Мана тацйчин дун» («Песня нашей республики», 1936) восхваляет красного цвета трактор, вспахивающий почву для невиданного здесь ранее земледелия, на прежней пустоши всходит урожай: «Улан ширтэ трактор машидэр / удрад йазриг делпю. / Урдк хоосн кодэсэр / урйцин далань делгрнэ» [Ипжип 1936, 4]. В стихотворении-магтале Михаила Хонинова «Колхозин кулг - трактор» («Колхозный конь - трактор», 1940) трактор сравнивался с железным конем-аранзалом, не знающим устали и не требующим отдыха, а тракторист - с всадником, взявшим поводья, с прославленным богатырем Мазаном: «Куржцпж, темр кулг, / Келврулж; йазр хайл. <...> Амрна, муурна гидгиг, / Арнзл, чи медхшч. <...> ЖДлайичн атхж; суусн / Дурта чини эзн - / Оли майдан туурсн / Омгта баатр Мазн» [Хоньна М. 1940, 1]. Слово «кулг» в первом значении означает аргамак, рысак, боевой конь, во втором значении - поэт. уст. витязь, богатырь, батырь [Калмыцко-русский словарь 1977, 323-324]. Лирический субъект с похвалой обращается к трактору: «Шулуд, шурутэ кулг, / Шатадган болв эрвл. <...> Кунд ги-игн гидгиг / Кеду йоввчн йилйхшч. // Ишк емэрэн зормгэр, / Идх хотыг элвджэ, / Манд цугтаднь курмгэр / Мишклх буудя урйа» [Хоньна М. 1940, 1] («Быстрей, сильный конь, экономь топливо. <...> Сколько ни работаешь, не различаешь ты - трудно ли, легко ли. Двигайся вперед отважно, способствуй изобилию пищи, чтобы нам всем досталось, выращивай мешками пшеницу»). Забота о железном друге звучит в заверении тракториста не сожалеть о том, что тот может сломаться, разрушиться, не думать о том, что тот может в пыли заржаветь: «Хамхрхв, эвдрхв гиж, / Харм бича тер, / Тооснд зеврхэ гиж, / Тоолдган чи хер» [Хоньна М. 1940, 1], т.е. в контексте трактор всегда починят, приведут в порядок. Трактор так же любим, как и конь: «Дурта чини эзн» («Твой любящий хозяин») [Хоньна М. 1940, 1].
В «Песне колхозника» («Колхозникин дун», 1938) Басанга Дорджие-ва степь повсюду наполнилась неизвестными ранее машинными звуками: «Машина дун тегэлцгдэн куцкннэ» [Доржин Б. 1938Б, 2]; это работают комбайны, тракторы, машины. «Машин, трактор, комбайн цуйар / Мана олн колхозмудин келгн, / Делгрж; ессн эдн цуйар / Диилгсн социализмин ач-нилч...» [Доржин 1938Б, 2] («Машина, трактор, комбайн - транспорт наших многих колхозов. Все они способствовали победе социализма»). Поэт сравнил прошлое и настоящее калмыцкой степи через описание и восприятие новой техники в другом стихотворении «Байн теегм байрта» («Радостна моя богатая степь»): «Кезэнэ хальмгуд “шулм” гилдцхэдг, / Комбайн, автомобиль, трактор, самолет, / Ода баатр урдин йарт / Омгинь еедлулж; теегэр лугшна» [Доржин 1938а, 3] («Раньше калмыки называли комбайн, автомобиль, трактор, самолет чертями, теперь они в богатырских руках, воодушевляя, сотрясают степь»), В переводе Д. Бродского эта строфа сократилась в перечислении механических помощников: «Гудит самолет / В вышине голубой, / Авто пролетают / Веселой гурьбой, - / “Шул-мусами” раньше / Считал их народ, / Теперь им повсюду любовь и почет» («Радостная степь моя») [Дорджиев 1940, 52].
Машинная техника обычно в произведении передана безэквивалент-ной лексикой: машин, авто / автомобиль, трактор, комбайн, самолет. В стихотворении «ХаалЬ» («Дорога», 1940) Мутул Эрдниев старину и новь показал с помощью образа дороги - ранее кривой, как змея, местами непроезжей, крутой, а теперь на смену телегам пришли мощные брички. А колхозники освоили машины-аранзалы, машины, которых называли «чертовым огнем», стали лучшими друзьями людей: «Кулгин арнзл машидиг / Колхозин урдуд кулгллэ. / “Шулмсин Бал” машин / Сон нээж болв» [Эр-днин 1940b, 1]. Шулм - черт, бес, дьявол, злой дух [Калмыцко-русский словарь 1977, 683].
Ср. у современного калмыцкого поэта Ивана Убушаева в названии стихотворения-магтала «Мори эрднь» («Конь - драгоценность», 1997) передано народное восприятие ценности коня. Напоминая калмыцкую поговорку о том, что дальние расстояния сближает конь-драгоценность («Хол Ьазриг оордулдг - / Морн-эрднь» [Увшан 1997, 24], поэт заверяет, что, несмотря на машины, заполонившие степь, в калмыцком языке навечно останется отношение к коню как к драгоценности: «Зуг хальмг келнд / ЗууЬад, мицЬад жилд / “Морн-эрднь” гиЬад, / Моцкинд келгдэд улдх» [Увшан 1999, 24]. Магтал коню, сравнение с эпическим конем-аранзалом («улан зеерд морн») есть и в другом стихотворении поэта «Эмэлтэ мори узгдхла...» («Когда увижу оседланного коня...», 1997) [Увшан 1999, 66].
В гендерном плане освоение новой техники представлено М. Эрдние-вым в стихотворении-магтале «Песня степной подруги» («Теегин иньгудин дун», 1940), где трактор прямо не назван, но метафорически обозначен как «хар болд кулг» («черный стальной конь»), на котором девушка трудится в поле. Ср. красный цвета трактор в стихотворении Л. Инджиева. Обращаясь к своему другу, трактористка предлагает ему вместе работать на этих железных конях в степи, а когда понадобится, сменить на живого коня, чтобы отбить наступление врага. При этом она готова освоить для этого и танк: «Кучта танкарн довтлий» [Эрднин 1940а, 3] («На мощном танке поскачем»). Глагол «довтлх» - «скакать» здесь передает конную эстафету.
Для довоенной оборонной тематики калмыцких поэтов характерно стихотворение Аксена Сусеева (литературный псевдоним Дендян Айс) «Биди бели» («Мы готовы»), в котором конница сохранит свое назначение и в будущей войне: «Теегин мердин турудас / Тоосн цоонград hapx! / Терка - хурдн арнзлан / Тецгсин ковэЬэс услх!» [Дендэн 1938, 3] («От копыт степных коней поднимется пыль! Строптивого быстрого аранзала напоим на морском берегу!»). Ср. в стихотворении Л. Хонинова «Харсач болхв» («Стану защитником») указывается саврасая масть коня: «ХоцИр деерэн мордвв, / Хортнас нутган харнав! / Хоцйр мини хурдн, / Хортыг тэвшго гуудлтэ!» [Хоньна Л. 1938, 3] («Сяду на саврасого коня, защищу от врага страну! Саврасый мой быстр, не упустит в беге врага!»). ХоцБр -саврасый (о лошадиной масти) [Калмыцко-русский словарь 1977, 596].
Магтал-величание стального коня-аранзала в калмыцкой поэзии XX в.
Помимо машины в русском переводе эрендженовского «Марша стахановцев Калмыкии» появился и паровоз: «Мчись, машина, скорей! Паровозы, на полный ход!» [Эрендженов 1936, 1]. На смену живому коню после железной машины и железного трактора в калмыцкую поэзию пришел стальной поезд-аранзал: прибытие поезда в Элисту в связи с открытием пассажирского железнодорожного сообщения. К магталам, адресованным паровозу / поезду, можно отнести послевоенное стихотворение Л. Инджи-ева «Арнзл» («Аранзал»), Лирический субъект вначале вспоминает, как любил скакать на коне в весенней степи, сожалеет, что предки не увидели стального Аранзала, сила которого превыше силы тысячи скакунов. «Элст - Москва хоорнд / Эн Арнзл довтлна, / Эцкр Москвад, Элстд, / Энм хурдар курпю. / Мана цага Арнзл - Магталта дурэр жиспэ, / Саадгин сум-нас хурдар / Сальк ерж; ниснэ. // Зугэр энунлэ дуццулх / Саадгин сумн уга. / Зальта кулгин гуудлд / Саалтг болдгнь уга» [Ипжип 1987, 15] («Между Элистой и Москвой этот Аранзал скачет. В любимую Москву, в Элисту он быстро доставит. Аранзал нашего времени - величаво движется, быстрее стрелы из лука несется, ветер поднимая. С чем сравнить - нет такой стрелы. С таким бегом коню не сравниться»). Сравнение объекта движения со стрелой отсылает к эпическому бегу коня. См. в Малодербетовском цикле «Джангара»: Зерде «Хах сумн кевтэ Ьолйалв» («Словно выпущенная стрела, с места сорвался он») [Калмыцкий героический эпос 2020, 114, 115]. Стук вагонных колес для поэта подобен цокоту конских копыт, паровозный гудок - конскому ржанию. «Шинрсн теегинь тускар / Шулгэн би келув. / Болд Арнзл гуудлд / Байрлсн седклэн илдкув» [Ипжип 1987, 20] («Я рассказал в стихотворении об обновленной степи. О беге стального Аранзала выразил радостную мысль»), В переводе В. Стрелкова эта связь с эпосом акцентирована: «Вот он, прибыл из сказки к перрону вокзала, / Ставший явью калмыцкой, / Стальной Аранзал!» [Инджиев 1987, 31].
Ср. в стихотворении М. Хонинова «Хуувин йосна Арнзл» («Аранзал Советской власти», 1970) сюжет скачки коня наперегонки с поездом - наглядная иллюстрация того, как конь все же отстал от стального соперника: «Зеерд, болдас / Бичк, негл тэвц дутв. / Тер бийнь Зеерд, санснас / ТатлЬта йовна <...> тегэдчн куцгдв» [Хоньна М. 1971, 21] («Зерде чуть отстал от стального [коня]. Если подумать, то Зерде был в упряжи <.. .> потому и не догнал»), В эпической традиции стальной Аранзал разговаривает во время движения с машинистом, а Зерде - со своим всадником-табунщиком. Свидетелями необычного соревнования стали в тексте с помощью приема олицетворения степь, ветер, птицы, сайгаки, а также люди. Поэту увиденное напомнило скачку сказочных богатырей, заставив сильнее биться его сердце. Как и Л. Инджиев, он заключил: «Эн бичсм, эн узсм / Хуучна тууль биш. Эн - / Эндрин гегэнд Хальмгтм унулсн / Хуувин йосна Арнзл мен!..» [Хоньна М. 1971, 21] («Это написанное, это увиденное - не старая сказка. Это в сегодняшнем свете Аранзал Советской власти в моей Калмыкии!..»). Ср. у С. Есенина исторический мотив драматической гонки жеребенка за поездом («Сорокоуст», 1920).
Иные - трагические - мотивы связаны в калмыцкой поэзии с периодом депортации народа в поездах зимой, в декабре 1943 г, но там уже нет прежних ассоциаций с эпическим Аранзалом, как и в «задержанной» поэзии, когда калмыки вернулись на родину поездом через станцию Дивное Ставропольского края в 1956-1957 гг. С понятием «поезд памяти» связано в конце 1990-х-начале 2000-х гг. несколько поездок старшего поколения ссыльных калмыков в прежние места их проживания в Сибири, но и этот мотив, по-видимому, утратил у калмыцких поэтов указанную фольклорную традицию (поезд-аранзал).
Заключение
Итак, фольклорная традиция магтала - величания коня из эпоса «Джангар» в калмыцкой периодике 1930-1940-х гг. трансформировалась в стихах и стихах-песнях калмыцких поэтов, обращенных к образам собственно коня (аранзала - богатырского волшебного аранзала), железного коня - трактора, позднее стального коня - поезда. Элементы магтала присутствуют в стихах с упоминанием машин / автомобилей, комбайнов, но их реже обозначают как железных коней (К. Эрендженов, Б. Бухан-ков, Б. Дорджиев). Магтал коню (обычно аранзалу, с таким же именем) в рамках стихотворения / песни не сохраняет все структурные особенности общих мест из эпоса (описание, седлание, движение), а передает фрагментарное описание красоты, масти, бега животного, трудовых или боевых качеств (П. Джидлеев, С. Эрдюшев, Л. Хонинов). Ср. в конце поэмы М. Хонинова седлание коня при возвращении воина домой. Магтал трактору как железному коню («темр кулг») и трактористу / трактористке как всаднику / всаднице отражает мощь, силу, работоспособность, неприхотливость, выносливость, реже цвет механизма (красный, черный) и профессионализм водителя - богатыря / богатырской девы (М. Хонинов, М. Эрдниев). Стальному коню («болд кулг») - пассажирскому поезду -адресован магтал в послевоенных стихах Л. Инджиева и М. Хонинова, подчеркнуто превосходство стального коня над живым собратом, в том числе сюжетно (скачка). Параллелизм механического и живого передан без гиперболизации через сопоставление, сравнение, уподобление, эпитет (металл, движение, скорость, мощь, звуки). В довоенной калмыцкой поэзии тема паровоза / поезда широко не разрабатывалась из-за отсутствия железнодорожного сообщения в степи, редкого соседства с таким видом транспорта. Машинная техника обычно в произведении передана безэк-вивалентной лексикой. Функция живого и механического коня, как и в фольклоре, сохраняется: помощник человека в трудах и боях при построении социализма и защите родины. Такие авторские магталы-величания отличаются сюжетностью, противопоставлением прошлого и настоящего в калмыцкой степи, соблюдением фольклорной традиции, в том числе стихосложения.
Авиация, летчик, самолет как приметы сталинской эпохи привлекли внимание калмыцких поэтов 1930-1940-х гг. в большей степени. Сравнение самолета с птицей (болд шовун - стальная птица), с орлом, с соколом (сталинск харцхс - сталинские соколы) пришло на смену образу крылатого коня - аранзала в калмыцкой поэзии тех лет, его фольклорной традиции. Один из немногих примеров сравнения самолета с крылатым конем есть в «Балладе о будущем» Гари Даваева («Хеетин баллад», 1936) [Ханинова 2019]. Эта тема станет объектом и предметом исследования следующей статьи.
Список литературы Жанр "магтал" в калмыцкой поэзии ХХ в. Статья вторая
- Бахадырова С.С. Культ коня в калмыцком эпосе «Джангар» и каракалпакском дастане «Коблан» // «Джангар» и проблемы эпического творчества. Материалы Международной научной конференции (22-24 августа 1990 года). Элиста: АПП «Джангар», 2004. С. 267-270.
- Биткеев Н.Ц. Калмыцкий героический эпос «Джангар»: Проблемы типологии национальных версий. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1990. 155 с.
- Калмыцкий героический эпос «Джангар»: Малодербетовский цикл / отв. ред. Г.Ц. Пюрбеев, С.Ю. Неклюдов, В.В. Куканова. М.: АО «Первая Образцовая типография», Филиал «Чеховский Печатный Двор», 2020. 544 с.
- Калмыцко-русский словарь / под ред. Б.Д. Муниева. М.: Русский язык, 1977. 768 с.
- Кичиков А.Ш. Героический эпос «Джангар». Сравнительно-типологическое исследование памятника. Изд. 3-е, репринтное. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1997. 320 с.
- Кичиков А.Ш. Исследование героического эпоса «Джангар» (Вопросы исторической поэтики). Элиста: Калм. кн. изд-во, 1976. 154 с.
- Неклюдов С.Ю. Фольклорный ландшафт Монголии. Эпос книжный и устный. М.: Индрик, 2019. 592 с.
- Овалов Э.Б. Сюжетно-стилевые традиции в эпосе «Джангар» и его версиях. Элиста: АПП «Джангар», 2008. 304 с.
- Овалов Э.Б. Типология мотивов и сюжетов в эпосе монгольских народов. Элиста: АПП «Джангар», 2004. 184 с.
- Пюрвеева Н.Б. Поэтика героического эпоса «Джангар». Элиста: АПП «Джангар», 2003. 240 с.
- Рифтин Б.Л. Мастерство восточномонгольских сказителей (магтал коню и всаднику) // Фольклор. Поэтика и традиция. М.: Наука, 1982. С. 70-92.
- Рифтин Б.Л. Описание коня в традиции восточномонгольских хурчи и его китайские параллели // Цэндийн Дамдинсурэн: к 100-летию со дня рождения / сост. А.Д. Цендина. М.: Вост. лит., 2008. С. 122-139.
- Ханинова Р.М. Баллада о войне в калмыцкой поэзии ХХ в. // Новый филологический вестник. 2019. № 1. С. 194-206.
- Ханинова Р.М. Жанр «магтал» в калмыцкой поэзии ХХ в. Статья первая // Новый филологический вестник. 2022. № 2. С. 413-429.