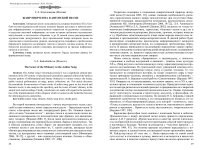Жанр некролога в авторской песне
Автор: Кадочникова Софья Андреевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 1 (44), 2018 года.
Бесплатный доступ
Авторская песня стала важным культурным явлением XX в. Особый поэтико-журналистский подход позволил бардам выступать в качестве авто-ров информационных и художественных некрологов на различных площадках: в средствах массовой информации, на сцене во время публичных музыкальных выступлений, в поэтических сборниках и др. В данной статье рассматривается журналистская дискурсивность ряда произведений жанра авторской песни на лексическом и тематическом уровнях, анализируются специфика и проблематика бардовского некролога на примерах текстов и записей, сделаны выводы об особенностях реализации данного поджанра, находящегося на границе информационности и поэтики.
Авторская песня, некролог, барды, песенная лирика, ин-формационный жанр
Короткий адрес: https://sciup.org/14914693
IDR: 14914693
Текст научной статьи Жанр некролога в авторской песне
Во второй половине пятидесятых - начале шестидесятых годов у русской поэзии появилось новое параллельное русло - бардовская песня. В статье «Авторская песня как литературный факт» Вл. Новиков пишет: «Его создали “поющие поэты” - авторы стихов и музыки своих песен, являвшиеся одновременно их исполнителями (как правило, под аккомпанемент гитары)» [Новиков 2002, 5]. Когда такие исполнители появились на радио, посвященная им передача была названа «Барды и менестрели». Так в обиходе укоренилось слово «бард»: им продолжают называть тех, кто сочиняет песни и сам исполняет их. С одной стороны, авторская песня обычно рассматривается как совокупность синтетических продуктов творчества, где центральное место занимает стихотворный текст [Ничипоров 2006, 18-22], с другой - как социокультурное явление, близкое к общественному движению [Новиков 2002, 371-408].
Теоретики солидарны в понимании синкретической природы авторской песни [Соколова 2002, 30], однако очевидна необходимость разделять произведения данного жанра типологически: при отсутствии общепринятой типизации, представляется возможным, руководствуясь исследованиями И.Б. Ничипорова [Ничипоров 2006, 18-22], Л.А. Аннинского [Аннинский 1999] и Л.А. Левиной [Левина 2002], выделить не только тематическое (информационные, туристские, «блатные» песни и др.), но и типовое разделение на репортажи, фельетоны, хроники, истории, новеллы и т.д. Проблемы экзистенциального плана также нередко находят свое отражение в произведениях жанра авторской песни. В данной работе будет рассмотрено специфическое преломление информационного некролога в произведениях авторской песни, его содержание, проблематика, образность. В рамках приведенного исследования определение «жанр» применяется в отношении подтипа произведений авторской песни, посвященной тематике смерти, т.к. некролог определяется как соответствующая составная часть системы журналистских жанров.
Поиск смысла жизни, обращенность к индивидууму, к личности, стремление к свободе внутренней и внешней - главные темы культуры XX в. «Мир вступил в античеловеческую эпоху, характеризующуюся процессом дегуманизации. Но трагический опыт ужасающей комедии истории подготовляет совершенно новую эпоху в судьбах человека. То, что происходит на поверхности истории, не может пошатнуть веры в творческое призвание человека, связанное с метафизическими глубинами», -провозгласил Н.А. Бердяев в своей работе «Самопознание» [Бердяев 1997, 410]. Опираясь на это высказывание, мы можем заявить, что в XX в. произошел кризис в отношениях человека и культуры. Принудительная заданность вектора развития последней приводит к превращению ее в закрытый для развития сектор человеческой жизнедеятельности. Однако страдания могут подтолкнуть человека к протестному искусству, к философии, обращенной к пограничным состояниям. По мнению Н.А. Бердяева, главной причиной одиночества человека и его незащищенности является его зависимость от объективированной среды, суть которой - конечность, тлен: «Тоска, в сущности, всегда есть тоска по вечности, невозможность примириться со временем... Время есть тоска, неутоленность, смертоносность» [Бердяев 1997, 348].
Бардовская философия тесно связана с понятиями бытия и небытия. Применительно к жанру авторской песни можно привести определение, данное А.Я. Гуревичем: «Время мыслится в качестве чистой длительности, необратимой последовательности протекания событий через прошлое в настоящее и будущее. Человек не рождается с “чувством времени”...» [Гуревич 1984, 43]. Это понятие времени постоянно пересекается с понятием смерти, и данный мотив для авторской песни чрезвычайно важен. М. Хайдеггер писал об этом так: «...Наше присутствие по самой своей сути состоит в отношении к сущему, каким оно и не является и каким оно само является, в качестве такового присутствия оно всегда происходит из заранее уже приоткрывшегося Ничто. Человеческое присутствие означает: выдвинутость в Ничто» [Хайдеггер 1993,22]. Имплицитно экзистенциальные идеи повсеместно присутствуют в текстах жанра бардовской песни.
Помимо литературной жанровой составляющей, в произведениях многих бардов часто прослеживается и журналистская. Главным доказательством такого слияния является информационный жанр песни-репортажа, созданный в начале шестидесятых годов XX в. бардом Юрием Визбором во время его работы корреспондентом в журнале «Кругозор». В этом синтетическом творении автору удалось соединить документальные записи с песенным текстом. Нельзя не упомянуть частую привязанность авторской песни к какому-либо информационному поводу, что также роднит авторскую песню с газетно-журнальной системой. Злободневность текстов Александра Галича, встречающееся у Владимира Высоцкого обыгрывание газетных штампов и, конечно, часто фигурирующие в текстах «журнальные» слова того времени, - вот доказательства тесного переплетения журналистики и авторской песни. Это производило буквально эмоциональный взрыв, - как точно заметил критик Л. Аннинский, «...из интимного “я” песня вышла на всеобщее обозрение» [Аннинский 1999, 36].
Специфический жанр некролога определяется в первую очередь особенным предметом отображения - сообщением о смерти человека. «Кроме того, некрологи, как правило, содержат краткую биографию умершего, сообщают о том, где и как он работал, о его достижениях, наградах. Иногда в некрологе говорится о причине смерти, месте похорон. Завершается некролог обычно прощальными словами, выражением скорби по умершему» [Тертычный 2000, 88], - определяет данный жанр теоретик А. Тер-тычный. Также он подчеркивает, что подобные материалы, несмотря на их специфичность, присутствуют в медиапространстве с момента его появления. При этом данный жанр предполагает немалое пространство для выражения эмоций: здесь зачастую преследуется цель не строгого информирования, а запрос на сочувствие аудитории (особенно если речь идет не о некрологе-объявлении). И в отличие от информационной заметки, некролог может содержать эмоциональные цитаты, усиливающие чувство сопереживания.
Один из первых бардов Михаил Анчаров написал в 1959 г. песню-некролог, посвященную своему знакомому, который жил с ним по соседству еще до Великой Отечественной войны. Текст песни «Цыган-Маша» - это биографическое перечисление того, чем мог запомниться герой: грабежи, три года тюрьмы, сожительство с девушкой (названной в песне «марухой» [Елистратов 2000, 242] - на арго), определение в штрафной батальон в военное время и - геройская смерть. И несмотря на очевидно бессмысленную с точки зрения автора жизнь («Ты жизнь свою убого // Сложил из пустяков» [Анчаров 2001, 37]) в финале он задает вопрос о целесообразности такого наказания для преступника - ведь определение в штрафбат фактически означало смертный приговор; этот вопрос у Анчарова выделен особо («Штрафные батальоны - кто вам заплатит штраф?!» [Анчаров
2001, 37]). Несмотря на то, что большая часть текста встречает иронию со стороны слушателя и читателя, несколько финальных строф вызывают сопереживание и ставят перед аудиторией важный вопрос переосмысления истории. Неудивительно, что текст с подобной проблематикой Михаил Анчаров решился написать уже в годы оттепели.
Поздний отклик на реальный трагический случай написал и родоначальник жанра песни-репортажа бард Юрий Визбор в 1965 г. В тексте «С е-рега Санин», как и в большинстве «документальных» песен барда, сплетаются сразу два информационных жанра. По мнению А. Кулагина, данную песню можно причислить к информационной: «...она “привязана” к конкретным ситуациям, и к тому же, переносит нас, вслед за героями, из одного пространство в другое» [Кулагин 2013,60]. В этом репортаже-некрологе аудитории становится понятно произошедшее по тому, как Визбор описывает обстоятельства трагической гибели заглавного героя, - как в настоящем газетном некрологе: «А он чуть-чуть не долетел, совсем немного // Не дотянул он до посадочных огней» [Визбор 2001, 154]. Трагизма добавляет припев, где описывается тяжелый быт летчиков в тайге; а звучащее рефреном «уходишь - счастливо! Приходишь - привет!» [Визбор 2001, 154] говорит нам, что герой навсегда ушел. Некрологи авторства Визбора вызывают наибольший интерес, т.к. в его текстах выполнено условие информационности и публичности: он обнародовал некрологи в СМИ, достигая таким образом конечной цели назначения откликов на смерть.
Барды часто использовали в своих текстах диалог для выражения широкого диапазона чувств и эмоций. Особенно часто это использовалось для более четкой прорисовки пограничной ситуации. Это наблюдается в раннем трагическом стихотворении Визбора «Поминки» (1965), посвященном памяти А. Сардановского: «- А правда, как горы, стоят облака? // - Действительно, горы. Как сказочный сон. // - А сколько он падал? - Там метров шестьсот» [Визбор 2001, 150]. Несмотря на интонационную будничность этого разговора, в нем тонко замечены характеры персонажей («- Так как же нам жить? Проклинать ли Кавказ? // И верить ли в счастье? - Ты знаешь, я пас» [Визбор 2001, 150]). Некролог в этом случае пишется скорее на эмоциональном уровне, нежели на речевом. Уместно вспомнить идею Карла Ясперса, согласно которой роковое переживание способно поставить человека прямо перед тем самым «Ничто», - и материальный мир испаряется, но освобождается духовный взгляд на окружающую действительность.
Некролог «Капитан ВВС Донцов» выделяется тем, что написан дольником: острая ритмика формирует небольшую пьесу, в которой важны не только герои, но и сам рассказчик. Она пронизана драматизмом и философичностью: «А человек, сидящий верхом на турбине, // Капитан ВВС Донцов, // Он - памятник ныне, он - память отныне // И орден, в конце концов!» [Визбор 2001, 184]. Нервные реплики, грубые выражения и профессиональная лексика смешиваются с трагической развязкой, где ценность последних секунд жизни будто приуменьшена.
Одна из самых известных информационных песен Визбора - отклик на смерть Юрия Гагарина, опубликованный в первом журнале за 1970 г, -«В кабинете Гагарина тихо...». В ней точность поэтическая смешивается с документальной. Кульминацией произведения становится финальное сравнение: «И соборы стоят, как ракеты, // На старинной смоленской земле» [Визбор 2001, 198]. Говоря об особенности данного информационного и документального звукового жанра, следует упомянуть фразу самого журналиста Визбора, звучащую в репортаже-некрологе, помимо песни. Проходя мимо доски, на которой Юрий Гагарин чертил, он спрашивает: «Можно написать на ней? Я потом сотру...» (Юрий Визбор. Орбита начинается с Земли. Песня-репортаж о первом космонавте. Кругозор № 1, 1970). Эта фраза, имеющая печальную интонацию, дополняет настроение высказанным непрямо отношением автора.
Тему документальной смерти героя поднимает и Владимир Высоцкий в известном песенном стихотворении «Тот, который не стрелял». Здесь мы воспринимаем смерть безымянного воина через призму жизни и эмоций рассказчика: складывается «обратный» некролог, - жизнь, о которой повествуется в стихотворении, стала возможной только потому, что герой не выстрелил в приговоренного к расстрелу сослуживца: «Никто поделать ничего не смог... // Нет, смог один, который не стрелял» [Высоцкий 2015, 321]. Постановка проблемы здесь неоднозначна, рассказчик рисует нам сложную двойную смерть: физическую - для одного человека, и моральную - для другого, который был обязан своим существованием убитому («.. .Немецкий снайпер дострелил меня, // Убив того, который не стрелял» [Высоцкий 2015, 322]). Это настоящий некролог: главной задачей текста является информирование аудитории о кончине героя, о важных делах в его жизни, о скорби по нему. Текст «Тот, который не стрелял» наследует во многом традицию отечественного военного некролога. Следует заметить, что сам Высоцкий рассказывал, что данная песня фактологически достоверна - таким «недостреленным» был друг его семьи.
Ряд исследователей замечает угасание популярности данного жанра в прессе XX в.: материалы такого рода были вытеснены обновленным рубрикатором, где не было места условной «частной» скорби, однако некрологи, посвященные знаменитостям, продолжали публиковаться. Наибольшее распространение данный жанр получил в советской печати в годы войны 1941-1945 гг, когда некролог мог стать дополнительной возможностью рассказать читателю о подвигах воинов, поднять боевой дух и вызвать патриотические чувства. В послевоенные годы отказаться от данного жанра оказалось не так просто, т.к. запрос аудитории на подвиг «с человеческим лицом» сохранялся. В позднесоветские годы лексика и формат некрологов жестко регулировались.
Бард Александр Галич 4 декабря 1966 г, спустя шесть лет после смерти Бориса Пастернака напишет стихотворение, посвященное его памяти. Для нас оно ценно использованием журнального дискурса в тематике и композиции стихотворения. В качестве эпиграфа Галич использует един- ственный официальный некролог Пастернака в «Литературной газете»: «Правление Литературного Фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда, Бориса Леонидовича Пастернака, последовавшей 30 мая сего года, на 71 году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного» (Литературная газета. 1960. № 065 (4190). 2 июня). Стихотворение посвящено рефлексии на тему жизни и смерти советского писателя: бард напрямую обвиняет всех, кто был причастен к исключению Пастернака из Союза Писателей СССР, в его смерти: «Мы поименно вспомним всех, // Кто поднял руку!» [Галич 1999, 148]. Упоминаются и «киевские “письмэнники”» - поэт имеет в виду украинскую редакцию «Литературной газеты», которая также включилась в травлю писателя: «Борис Пастернак написав роман “Доктор Живаго”. Я його не читав, але не маю шдстав не в!рити редколегп журналу “Новый мир”, що роман поганий. I з художнього боку, i з щейного» [Панч 1958] (Я его не читал, но не имею оснований не верить редколлегии журнала «Новый мир» в том, что роман плох. И с художественной стороны, и с идейной - пер. С.К.\ Рефреном звучит обвинение сочувствующих современников в малодушии, которые забыли о мучениях Бориса Пастернака только потому, что «он умер в своей постели». В данном стихотворении Александр Галич обыгрывает сразу несколько жанров журналистики, - здесь есть абсолютно публицистическое обращение к аудитории, свойственный материалам прессы того времени призыв к совести.
Особое внимание стоит уделить некрологам, которые барды посвящали своим ушедшим коллегам. Так, в стихотворении памяти Льва Гинзбурга, написанном сразу после его смерти в 1980 г. Булатом Окуджавой, поэтически соединяются темы жизни, смерти, общего предназначения, скоротечности времени: «Жил, пел, ходил, дышал, как все, // покуда время длилось» [Окуджава 2009, 375]. Формально это практически готовый текст для публикации в СМИ.
Александр Городницкий в произведении «Памяти Юрия Визбора» рефлексирует наследие покойного товарища и задается вопросом, какими останутся прочие в памяти будущих поколений: «Нас не вспомнят в избранном - мы писали плохо, // Нет печальней участи первых петухов... // Вместе с Юрой Визбором кончилась эпоха...» [Городницкий 2016, 146]. Стихотворение отличается интертекстуальностью: Городницкий обращается как к лирическим, так и информационным произведениям Визбора, утверждая важность его наследия: «...лыжи греются у печки, // На плато полночном снежная пурга» [Городницкий 2016, 146] (стихотворение «Домбайский вальс» и первая песня-репортаж «На плато Расвумчорр»), Идентичный подход можно наблюдать у Владимира Высоцкого в стихотворении «Памяти Василия Шукшина»; здесь бард выступает как коллега-актер: говорит о плохой примете играть умирающих, упоминает, что в момент смерти была «красна калина», и т.д. Сохранились записи, где Высоцкий завершает исполнение этого произведения стихотворной документацией момента похорон - опускание гроба в разрытый грунт на Ново- девичьем кладбище.
Смерть Высоцкого летом 1980 г. стала темой большого количества поэтических произведений. Свои стихотворения ему посвятили Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Леонид Филатов, Андрей Вознесенский и многие другие. Бард Александр Городницкий в произведении, написанном спустя 5 дней после кончины Высоцкого, практически вписывает покойного в историю литературы, наравне с А.С. Пушкиным: в тексте анафорическим рефреном звучит цитата «Погиб поэт» [Городницкий 2016, 109]; в финале голос Высоцкого называется голосом России, которого никому «не заменить». Ему вторит Евгений Клячкин: «Ты будешь первым вечно // И будешь жив!» [Клячкин 2003, 265]; однако в своем тексте автор выходит за пределы жанров некролога и посвящения, художественно рисуя эпоху, в которую жил Высоцкий. Иной подход наблюдается у поэта-песенника Игоря Кохановского - его некролог схож своей информационностью со стихотворением Окуджавы памяти Галича: он пересказывает жизненный путь Высоцкого и упоминает обстоятельства смерти.
В противовес официальному искусству, в авторской песне важны утверждение гуманистических ценностей, образ личности, персонификация адресата произведения; и в этом новаторство шестидесятнической поэзии. Авторская песня реализует информационный жанр некролога двояко: с одной стороны, в лирических произведениях черты данного журналистского жанра используются как средство художественной выразительности, - чтобы заострить проблематику; с другой - в случае выступления со страниц средств массовой информации, барды стремятся усилить образ автора, чтобы их произведения звучали эмоциональнее. Таким образом, присутствие журналистского дискурса в авторской песне позволяет ей балансировать на границе злободневной поэзии и журналистики: философские размышления на тему жизни и смерти совмещаются с обязательной для медийных выступлений обратной связью от слушателя или читателя.
Однако существование данного жанра в целом ограничивается несколькими десятилетиями: с изменением государственного строя в 1990-е гг. и сопутствующим ему приходом гласности авторская песня перестала быть столь же востребована, как ранее; появилась отечественная рок-поэзия, также часто звучащая в акустическом варианте, являющая собой музыкальный факт, который наследует авторской песне, но не заменяет ее.
Список литературы Жанр некролога в авторской песне
- Аннинский Л.А. Барды. М., 1999.
- Анчаров М.Л. Сочинения: Песни. Стихотворения. Интервью. Роман/соcт. В. Юровский. М., 2001.
- Бердяев Н.А. Судьба России. Самоcознание. Ростов-на-Дону, 1997.
- Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. 2-е изд., испр. и доп. М.,
- Елистратов В.С. Словарь русского арго: материалы 1980-1990 гг. М., 2000.
- Клячкин Е.И. Осенний романс: стихи. Песни. Проза. Ноты/сост. А. и Левитаны, Р. Шипов. М., 2003.
- Кулагин А.В. Визбор. М., 2013.
- Левина Л.А. Грани звучащего слова (эстетика и поэтика авторской песни). М., 2002.
- Ничипоров И.Б. Авторская песня в русской поэзии 1950-1970-х гг.: творческие индивидуальности, жанрово-стилевые поиски, литературные связи. М., 2006.
- Новиков Вл. Авторская песня как литературный факт//Авторская песня. М., 2002. С. 5-
- Новиков Вл. По гамбургскому счету: (Поющие поэты в контексте большой литературы)//Авторская песня. М., 2002. С. 371-408.
- Панч П. Вилазка ворога//Лiтературна газета (Киев). 1958. № 85. 28 жовтня.
- Соколова И.А. Авторская песня: от фольклора к поэзии. М., 2002.
- Тертычный А.А. Жанры периодической печати. М., 2000.
- Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления/пер. с нем. М., 1993