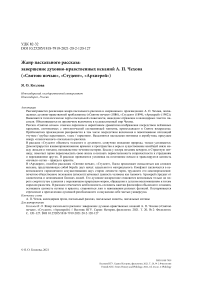Жанр пасхального рассказа: завершение духовно-нравственных исканий А. П. Чехова («Святою ночью», «Студент», «Архиерей»)
Автор: Козлова Яна Олеговна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается реализация жанра пасхального рассказа в «вершинных» произведениях А. П. Чехова, посвященных духовно-нравственной проблематике («Святою ночью» (1886), «Студент» (1894), «Архиерей» (1902)). Выявляются типологические черты пасхальной словесности, нашедшие отражение в календарных текстах писателя. Обосновывается их органичное включение в художественный мир Чехова. Рассказ «Святою ночью» отмечен лиризмом и нарастанием драматизма изображения посредством пейзажных зарисовок, соотносимых с онтологической составляющей таинства, происходящего в Святое воскресенье. Проблематика произведения раскрывается в том числе посредством включения в повествование оппозиций «чуткие / грубые персонажи», «хаос / гармония». Выделяются пасхальная мотивика и атрибутика, присущие жанру «классического» пасхального рассказа. В рассказе «Студент» общность телесного и духовного, созвучная описанию природы, только усиливается. Демонстрируется взаимопроникновение времени и пространства и веры в существование всеобщей связи между людьми и эпохами, неподвластное течению истории. Беседа у костра поздним вечером, в Страстную пятницу, помогает герою переосмыслить свою жизнь и осознать первостепенность сопричастности к страданиям и переживаниям других. В рассказе проявляется установка на позитивное начало и транслируется ценность «вечных» истин – правды и красоты. В «Архиерее», подобно рассказам «Святою ночью», «Студент», Пасха продолжает осмысляться как сложное явление, представляющее собой борьбу двух начал: идеального и материального. Конфликт заключается в невозможности гармоничного сосуществования двух сторон личности героя, трудности его самоопределения: почетное общественное положение (епископ) затмевает данность человека как такового. Архиерей страдает от одиночества и непонимания близких людей. Его духовное воскресение становится возможным только на пороге смерти путем единения с окружающим природным миром, обращения к детским воспоминаниям и тихим мирским радостям. В рассказе отмечается необходимость следовать заветам философии обыденного сознания, осознавать ценность истины и красоты, сторониться лжи и навязывания ролевых функций. Подчеркивается стремление к преодолению душевной разобщенности и ощущению себя частью универсума.
А. П. Чехов, календарная проза, пасхальный рассказ, пасхальные сюжеты, пасхальные мотивы
Короткий адрес: https://sciup.org/147220270
IDR: 147220270 | УДК: 82-32 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-2-120-127
Текст научной статьи Жанр пасхального рассказа: завершение духовно-нравственных исканий А. П. Чехова («Святою ночью», «Студент», «Архиерей»)
Включенность творческого мышления А. П. Чехова в естественный «календарный» процесс обосновывается обращением писателя к жанрам новогодней, святочной, рождественской и пасхальной словесности. Отличительными особенностями последней являются приуроченность к пасхальному циклу (от Прощеного воскресенья до Троицы), явный дидактизм, особый хронотоп – наличие в произведениях двух миров: мира земного и мира горнего, которого герой должен достичь в результате нравственного, часто сопряженного с духовными и физическими страданиями, перерождения; особая праздничная атрибутика и мотивика (лазурный, белый, пурпурный цвета; пасхальный кулич, свечи, верба и др.; мотив духовного возрождения, очищения, становления на путь истинный, мотив сопричастности, раскаяния, прощения грехов и проч.), а также счастливая развязка, пасхальное «чудо», посредством которого герой приближается к познанию духовных истин.
В своих зрелых пасхальных произведениях («Бабы» (1888), «Скрипка Ротшильда» (1894), «Убийство» (1895) и др.) Чехов отказывается от авторской иронии и пародийных ситуаций, высмеивания погрязших в суетности жизни персонажей. Он прибегает к «классическому» пасхальному рассказу, наполняя его этико-философским содержанием и традиционной пасхальной мотивикой. Наличие духовно-философской проблематики, в рамках которой осмыс- ляется бытийный смысл существования человека, обращение к лирико-музыкальному слову (высокому поэтическому библейскому логосу), психологизм, раскрывающийся в том числе при помощи природных описаний, позволяет нам рассматривать произведения писателя «Святою ночью» (1886) – «Студент» (1894) – «Архиерей» (1902) в качестве целостного смыслового единства [Калениченко, 2003. С. 103; Собенников, 1997. С. 126].
Результаты исследования«Святою ночью» (1886)
Основное фабульное действие в рассказе «Святою ночью» разворачивается в Светлое воскресенье. Экспозиция предваряется лирическим описанием пейзажа, увиденного рассказчиком: «Было темно, но я все-таки видел и деревья, и воду, и людей... Мир освещался звездами, которые всплошную усыпали все небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звезд. Буквально некуда было пальцем ткнуть. Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно... Ради праздничного парада вышли они на небо все до одной, от мала до велика, умытые, обновленные, радостные, и все до одной тихо шевелили своими лучами <…>» [Чехов, 1976. Т. 5. С. 92] 1. Предрассветное спокойствие и благодать, сопутствующие тихому пасхальному утру, созвучны кроткому образу прислужника Иеронима, переправляющего на пароме людей с одного берега на другой, в монастырь, на праздничную службу.
Чехов был одним из первых, кто начал изображать священнослужителей как людей мыслящих, чувствующих и способных на глубокие душевные переживания. Он стремился «очеловечить» ранее неприступных в строгости и догматичности священнослужителей, обнаружить в них обычных людей, близких к своей пастве (см., например: «Ведьма», «Кошмар» (оба 1886), «Перекати-поле» (1887)).
Так и Иерониму, простому послушнику, свойственны чуткость и особая душевная восприимчивость, позволяющие скорбеть по умершему другу, иеродьякону Николаю, откликаться на его творчество – умерший сочинял необыкновенной красоты акафисты. Иероним оплакивает усопшего, который был к тому же необыкновенно порядочным и добрым человеком и не искал славы и признания ‒ не желал, чтобы его акафисты были напечатаны. За безгрешную и благочестивую жизнь Господь наградил иеродьякона: он умер в обедню в Великую субботу, а такая смерть в православии почитается за особую радость и даруется только праведникам. Заметим, что архетип Праведника у Чехова тесным образом связан с индивидуальным нравственно-религиозным опытом героя, который тот не пытается сообщить или навязать другому. Послушник Иероним духовно сближается с Николаем, они становятся как бы близнецами – воплощение приема зеркального отображения. Вместе они «несут в мир подлинно человеческое, которое в авторской интерпретации равно божественному» [Собен-ников, 1997. С. 130].
Светлым, необычайно кротким и смиренным образам Иеронима и Николая противопоставлены суетные монахи, которые далеки от благости, снизошедшей на первых двух священнослужителей. Так, они не способны по достоинству оценить красоту и поэтичность акафистов Николая, им не чужды мирские страсти, которым они предаются даже в самый Святой день – Пасху. Никто из них не старается вникнуть в слова праздничной службы – монахи нетерпеливо ждут ее окончания, чтобы отправиться разговляться к архимандриту.
К первой оппозиции (чуткие / грубые персонажи) семантически примыкает вторая, центральная – разница между воодушевленными, одухотворенными и суетливыми людьми, которые духовно слепы и не могут трезво оценить происходящее. К последним принадлежит и сам рассказчик: в ожидании парома он неспокоен, раздражителен, красота и благолепие окружающей природы его не трогают. Во время беседы с Иеронимом он сожалеет, что вот-вот может начаться «один из тех ‟продлинновенных”, душеспасительных разговоров, кото- рые так любят праздные и скучающие монахи» (т. 5, с. 95). Кажется, что его соболезнования послушнику неискренни, так как он всего лишь подделывается под монашеский тон. Наконец, во время службы рассказчик сливается с шумной, поверхностной толпой, не вникающей в суть вещей.
Хаосу, движению людей внутри и вне стен монастыря противопоставлено неподвижное состояние природы. Пейзаж психологичен и ассоциируется с восприятием действительности автором-повествователем: в начале рассказа (еще темно, не рассвело) природа тиха, затем, сообразно мироощущению рассказчика, слышится звон колокола, в небе появляются беспокойные огни - праздничная иллюминация; наконец, в финале (раннее утро) преобладает чувство усталости, герою чудится, что «деревья и молодая трава спали. Казалось, что даже колокола звонили не так громко и весело, как ночью. Беспокойство кончилось, и от возбуждения осталась одна только приятная истома, жажда сна и тепла» (т. 5, с. 102). Рассказ завершается описанием ясного, свежего утра и обратного пути паромщика. Смыслообразующую функцию описания природы в текстах автора подчеркивали многие исследователи (см. [Кубасов, 1998; Парфенов, 2016; Шехватова, 2003] и др.).
В рассказе неоднократно проявляются такие пасхальные мотивы, как мотив спасения души, мотив воскресения и мотив креста. В повествование включены праздничная атрибутика (куличи, красные восковые свечи, колокольный благовест) и характерная цветовая палитра (пурпурные, багровые, золотые цвета). Мотив воскресения сосредоточен на усопшем Николае: он умер во время Пасхи, рассказчик не может найти его тела, а творения иеродьякона и воспоминания о нем будут жить в памяти Иеронима и других монахов. Мотив креста реализуется в описании жизненного пути Николая (и отчасти послушника Иеронима): его душа не очерствела от того, что его великий дар - написание благодатных акафистов - оказался неоцененным и невостребованным даже среди братии. Обозначенные мотивы способствуют пониманию авторской идеи, более полно раскрывающейся в двух других произведениях цикла.
«Студент» (1894)
В пасхальном рассказе «Студент», пронизанном историческим оптимизмом, утверждается позитивное начало: главный герой, студент духовной семинарии Иван Великопольский, в финале испытывает душевный подъем и вступает на путь коренного преобразования своей жизни. Он молод (ему 22 года), здоров и в состоянии изменить свою судьбу.
Несмотря на то что «Студент» занимает неполных четыре страницы, в нем выразились смысловые доминанты, проходящие красной нитью сквозь все творчество А. П. Чехова. Так, главный герой приходит к выводу, что «правда и красота, направлявшие человеческую жизнь <...>, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле» (т. 8, с. 309). В движении сюжета рассказа совершается перемена мыслей и чувств героя, он является рупором авторских идей и мировоззренческой позиции, которая проявится в финале повествования.
В завязке читателям сообщается о возвращении с тяги сына дьячка, Ивана Великопольского, в Страстную пятницу. Время выбрано неслучайно: согласно церковному календарю в этот день был распят Иисус Христос, чья смерть сопровождалась солнечным затмением: «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до девятого часа: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по середине» (Лука, 23: 44-45). Великопольский же бредет в сумерках, по темноте. Ему неуютно, зябко и невесело. Он не хочет оказаться в холодном доме, где по случаю церковного праздника не готовили еды. Кажется, будто сама природа вторит чувствам семинариста: ей тоже жутко, «оттого вечерние сумерки сгустились быстрей, чем надо» (т. 8, с. 306).
Мотивы темноты, мрака и холода коррелируют с душевным состоянием героя и создают картину дисгармонии мира, не предполагающего спасения. Семинарист грешен; в Страстную седмицу он становится причастен к убийству: стреляет вальдшнепов, умерщвляет, подобно ссыльному Федору Степановичу («Вор», 1883) и чиновнику Невыразимову («Мелюзга», 1885) божью тварь. Мрачные размышления Великопольского о суетных вещах сменяются неутешительными мыслями об историческом развитии, в котором семинарист видит лишь ужасы, которые «есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше» (т. 8, с. 306).
Однако настроение героя меняется, когда он замечает костер, разведенный вдовой Василисой и ее дочерью Лукерьей. Глядя на огонь, студент рассказывает им евангельскую легенду об апостоле Петре, который в ночь распятия Господа так же, как и они сейчас, грелся у костра, а под утро трижды отрекся от Христа. Его рассказ находит живой отклик в душах слушательниц, заставляет их сопереживать страданиям Бога. Это поражает Великопольского, который внезапно осознает, что спустя столько лет Страсти Христовы способны вызвать сострадание и любовь в сердцах людей. Герой переживает бытийное потрясение, его душа очищается от мрака. Ему кажется, что пространственно-временные границы размыкаются, что между людьми и вещами существует всеобщая связь, неподвластная течению истории. В душе студента воцаряется гармония, он словно повторяет пусть апостола Петра: от «тьмы» к «свету», от отречения от Спасителя и непринятия божьих законов к утверждению Правды Иисуса Христа. Ему на долю секунды удается постичь истинный смысл бытия, который заключается в стремлении к правде, красоте и гармонии, умении чувствовать боль и скорбь, отказе от уныния. Звучит чеховская тема первоначальной отчужденности героя, которая трансформируется в типичный для пасхального рассказа мотив единения и способности сопереживать другим. Особенно ярко это проявляется в эпизоде с женщинами, которые реагируют на описываемые в легенде события так, будто бы они случились с близким для них человеком.
В рассказе утверждается самоценность жизни, важность обретения связей между другими людьми, победа духовного начала над телесностью - не случайно после встречи с путницами Великопольский уже практически не замечает холода, а чувствует только свою молодость, здоровье и силу. Им овладевает «невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья», его чувства вторят мироощущению автора-повествователя (т. 8, с. 309). Однако А. П. Чехов все же не отказывается признавать амбивалентность мира: в его художественной концепции сосуществуют добро и зло, «свет» и «мрак», пронизывающий холод и тепло от костра. Но писатель не берется логически растолковать смысл бытия - он только указывает на взаимосвязь прошлого и настоящего, событий и людей.
«Архиерей» (1904)
Рассказ «Архиерей» - один из «вершинных» прозаических текстов писателя - не раз попадал в исследовательское поле чеховедов, которые справедливо отмечают в произведении завершение основных тем, мотивов и эстетических доминант А. П. Чехова (см. [Бердников, 1997; Жилякова, 1994; Линков, 1982; Тюпа, 1989] и др.). Нам же важно отметить, как воплощается пасхальный сюжет в «последнем псалме» писателя.
В «Архиерее», по справедливому замечанию В. И. Тюпы, разворачивается драматический конфликт между «данностью человека и его сущностью», который смыкается с темой душевного одиночества, непонимания, отчуждения, выступающей лейтмотивом зрелого творчества писателя [Тюпа, 1989. С. 86]. Обыденный сюжет - болезнь преосвященного Петра и его скоропостижная смерть на Святой неделе - восходит к мифологической трактовке библейского сюжета о Страстной неделе Иисуса Христа. Мучаясь от физического недуга (преосвященный страдает брюшным тифом), архиерей в то же время страдает от трудности самоопределения себя, своей сути, пытается разрешить коллизию между внутренней, «человеческой», и навязанной, «архиерейской», составляющей своей души. Его терзания и скорби по прошедшей напрасно жизни, желание поговорить с «живой» душой, которая бы разглядела в нем обычного человека, а не благочинного, перекличка событий, произошедших с ним в течение Святой недели, соотносятся с окончанием жизненного пути Христа: «Хоть бы один человек, с которым можно было бы поговорить, отвести душу!» (т. 10, с. 199).
Именно поэтому время действия рассказа определяется пасхальным циклом: завязка рассказа и знакомство с героем относится к Вербному воскресенью, финал и смерть архиерея – к предпасхальной субботе. В течение недели происходило мучительное пробуждение и просветление духа преосвященного. Примечательно, что духовное воскресение героя осуществляется посредством обращения к мирскому, человеческому: тихой радости и улыбке матери, шуткам и непосредственности племянницы Кати, привычному ворчанию келейника Сысоя. Сюжетообразующая роль второстепенных персонажей в рассказе рассматривается в работах В. И. Тюпы [1989], А. С. Собенникова [1997].
Архиерей неоднократно обращается к детским воспоминаниям (дериваты от глагола помнить встречаются в тексте более десяти раз), когда он был простым сыном дьячка и любимая матушка была к нему «так нежна и чутка!» (т. 10, с. 188). Сейчас же она смотрела на сына с благолепием и робостью, стеснялась его присутствия и отказывалась признавать в нем близкого человека. Лишь перед смертью возникшая стена холода и непонимания между матерью и сыном была разрушена: «И ей тоже почему-то казалось, что он худее, слабее и незначительнее всех, и она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его, как ребенка, очень близкого, родного» (т. 10, с. 200).
Радость освобождения от выполнения навязанных обществом функций и высвобождение из пут житейской суеты герой испытывает только перед смертью: «<…> и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо , залитое солнцем (курсив наш. – Я. О. ), и он свободен теперь, как птица, может идти, куда угодно!» (т. 10, с. 200). Его кончина перед Пасхой – знак особой божьей милости. К этому сюжетному ходу Чехов уже прибегал ранее в пасхальном рассказе «Святою ночью», повествуя о смерти праведника иеродьякона Николая.
В приведенной цитате не случайны описания картин природы и окружающего мира – мотив пробуждения жизни, неоднократно повторяющийся в произведении, соотносится с мотивом спасения души героя. Можно предположить, что архиерей в его стремлении к единению с простыми людьми, опрощению видит себя частью целого природного мира, продолжением традиции: «Отец его был дьякон, дед – священник, прадед – дьякон, и весь род его, быть может, со времен принятия на Руси христианства, принадлежал к духовенству, и любовь его к церковным службам, духовенству, к звону колоколов была у него врожденной, глубокой, неискоренимой» (т. 10, с. 198).
Статус «родового человека», противопоставленный статусу человека «цивилизованного», оторванного от родины и родных, в рассказе подчеркивается связью с окружающим природным миром, поэтому в детских воспоминаниях героя – блеянье овец, скрип колес, церковный благовест и летние солнечные утра. Перед смертью благочинному не хочется в большой город или заграницу, он мечтает идти по полю с клюкой, наслаждаться простором и свободой. «В данном случае поле равно пути, путь же, дорога означают открытость и незавершенность. Дорога противоположна всему, имеющему границу, предел, в том числе стенам, которые в прямом и переносном смысле отделяют героя от других людей» [Собенников, 1997. С. 148]. Воспоминания героя, его обращение к своим истокам, описания расцветающей, оживающей вместе с весной природы – это не что иное, как «вспышки-молнии», возможность на краткий миг осознать бытийный смысл существования.
Заключение
Таким образом, в анализируемых рассказах А. П. Чехова определяется взаимосвязь прошлого и настоящего, говорится о важности обращения к своим истокам и возможности на короткий миг осознать бытийный смысл существования. На примере этого пасхального «цикла» можно проследить изменение творческого метода писателя, поиск идейно-художественных доминант, формирование его особой философской позиции, заключающейся в важности самоопределения, личностного роста и отсутствии готового алгоритма «прохождения» жизненного пути.
Список литературы / References
Бердников Г. П. А. П. Чехов. Ростов н/Д: Феникс, 1997. 637 с.
Жилякова Э. М. Последний псалом А. П. Чехова («Архиерей») // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX вв. Петрозаводск: Изд-во ПГУ, 1994. Вып. 1. С. 262–284.
Калениченко О. Н. Судьбы малых жанров в русской литературе конца XIX – начала XX века: святочный и пасхальный рассказы, модернистская новелла: Дис…. канд. филол. наук. Волгоград, 2000. 246 с.
Кубасов А. В. Проза А. П. Чехова: искусство стилизации. Екатеринбург: Екатеринбург. гос. пед. ун-т, 1998. 399 с.
Линков В. Я. Художественный мир прозы А. П. Чехова. М.: Изд-во МГУ, 1982. 128 с.
Парфенов А. И. Традиции русского романтизма в прозе А. П. Чехова 1888–1903 гг.: Дис. … канд. филол. наук. М., 2016. 218 с.
Собенников А. С. Между «есть Бог» и «нет Бога»: о религиозно-философских традициях в творчестве А. П. Чехова. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1997. 222 с.
Тюпа В. И. Художественность чеховского рассказа. М.: Высш. шк., 1989. 135 с.
Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. М.: Наука, 1976. Т. 5. 704 с.; Т. 6. 736 с.; 1977. Т. 8. 528 с.; Т. 10. 496 с.
Шехватова А. Н. Мотив в структуре Чеховской прозы: Дис.... канд. филол. наук. СПб., 2003.
Received
21.12.2020
Список литературы Жанр пасхального рассказа: завершение духовно-нравственных исканий А. П. Чехова («Святою ночью», «Студент», «Архиерей»)
- Бердников Г. П. А. П. Чехов. Ростов н/Д: Феникс, 1997. 637 с.
- Жилякова Э. М. Последний псалом А. П. Чехова («Архиерей») // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX вв. Петрозаводск: Изд-во ПГУ, 1994. Вып. 1. С. 262–284.
- Калениченко О. Н. Судьбы малых жанров в русской литературе конца XIX – начала XX века: святочный и пасхальный рассказы, модернистская новелла: Дис…. канд. филол. наук. Волгоград, 2000. 246 с.
- Кубасов А. В. Проза А. П. Чехова: искусство стилизации. Екатеринбург: Екатеринбург. гос. пед. ун-т, 1998. 399 с.
- Линков В. Я. Художественный мир прозы А. П. Чехова. М.: Изд-во МГУ, 1982. 128 с.
- Парфенов А. И. Традиции русского романтизма в прозе А. П. Чехова 1888–1903 гг.: Дис. … канд. филол. наук. М., 2016. 218 с.
- Собенников А. С. Между «есть Бог» и «нет Бога»: о религиозно-философских традициях
- в творчестве А. П. Чехова. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1997. 222 с.
- Тюпа В. И. Художественность чеховского рассказа. М.: Высш. шк., 1989. 135 с.
- Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. М.: Наука, 1976. Т. 5. 704 с.; Т. 6. 736 с.; 1977. Т. 8. 528 с.; Т. 10. 496 с.
- Шехватова А. Н. Мотив в структуре Чеховской прозы: Дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2003.