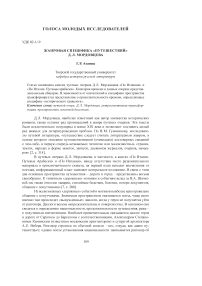Жанровая специфика "путешествий" Д. Л. Мордовцева
Автор: Атаянц Гаяне Рафаеловна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена книгам путевых очерков Д. Л. Мордовцева «По Испании» и «По Италии. Путевые арабески». Категория времени в данных очерках представлена весьма обширно. В зависимости от впечатлений и специфики пространства трансформируется представление о продолжительности времени, определяющее специфику «исторического травелога».
Путевой очерк, д. л. мордовцев, ретроспективная трансформация, пространство, языковой диссонанс, spaсe
Короткий адрес: https://sciup.org/146121909
IDR: 146121909 | УДК: 82-1/-9
Текст научной статьи Жанровая специфика "путешествий" Д. Л. Мордовцева
Д. Л. Мордовцев, наиболее известный как автор множества исторических романов, также оставил ряд произведений в жанре путевых очерков. Эти тексты были исключительно популярны в конце XIX века и позволяют поставить целый ряд важных для литературоведения проблем. По В. М. Гуминскому, исследователю путевой литературы, «путешествие следует считать литературным жанром, в основе которого описание путешественником (очевидцем) достоверных сведений о чем-либо, в первую очередь незнакомых читателю или малоизвестных, странах, землях, народах в форме заметок, записок, дневников журналов, очерков, мемуаров» [2, с. 314].
В путевых очерках Д. Л. Мордовцева, в частности, в книгах «По Италии. Путевые Арабески» и «По Испании», ввиду отсутствия чисто развлекательного материала и приключенческого сюжета, на первый план выходят впечатления от поездки, информационный пласт занимает центральное положение. В связи с этим два основных пространства путешествия – дорога и город – представлены весьма своеобразно. К типичным «дорожным» мотивам и событиям вслед за В.А. Шачко-вой мы также относим «аварии, стихийные бедствия, болезни, потери документов, общение с попутчиками» [7, с. 280].
Из всевозможных «дорожных» событий и мотивов наиболее ярко проявлено общение с попутчиками. Значимым пространством оказывается поезд, чаще всего именно там происходят «вынужденные» диалоги, когда у героя не получается уйти от разговора. Диалоги весьма непродолжительны и поверхностны. В основном они сводятся к определению национальности, продолжительности путешествия, реже – к полученным впечатлениям. Наиболее примечательным оказывается диалог героя в дороге от Сарагосы до Барселоны с соотечественниками, Александром Степановичем Каминским (известным московским архитектором) и супругой архитектора А. Е. Вебера. Разговор строится по обычной модели – кто, откуда, как давно путешествует; однако после установления национальности завязывается разговор об искусстве и России. Когда спутники путешественника советуют ему почитать замечательный роман, из которого «горстями можно черпать превосходные сюжеты для исторических картин» [5, с. 266], – таковым оказывается роман самого Мордовцева «Царь и гетман». Это редкий случай, когда попутчики не остаются безымянными англичанином, французом, немцем и т. п.
Пространство «границы» оказывается стертым, отмечаются лишь некоторые детали, которые подчеркивают оппозицию «свое – чужое». Наиболее точно это отражает негативно окрашенная лексика, включенная в характеристики. Так, например, андалузское солнце у Мордовцева – «ехидное» [5, с. 135], «Мансана-рес – грязный», «неприглядный Мадрид» не то, что «наш Курск или Елец», которые «гораздо эффектнее, когда подъезжаешь к ним. А еще столица такой поэтической страны! Куда ж ему до Киева!» [Там же, с. 49]. Следует отметить, что оппозиция «чужой, другой, дикий – свой, родной, простой» появляется в пространстве города, а именно: в изображении европейской действительности, которая сопоставляется с российской.
«Пространство города» в путешествиях обычно вмещает посещения трактиров и ресторанов, обеды, знакомства с людьми, пребывание в гостиницах, знакомство с самим городом, развлечения. Как такового контакта с местными жителями у героя не происходит, зато пространство города вмещает в себя непосредственно контакт с городом и пребывание в гостинице, где «балкон» выступает в качестве особого пограничного пространства: здесь можно предаться размышлениям и вспомнить былое: «После обеда я снова вышел на балкон. По-прежнему тихо и уныло кругом. Под горою чуть – чуть мерцают огоньки Гранады. Фонтаны и каскады продолжают свой нескончаемый таинственный шепот» [Там же, с. 203].
Путевые очерки Мордовцева – яркий пример текста, где сплетается прошлое с настоящим, совершается переход от мгновенного к вечному. В таких случаях «взгляд, направленный из настоящего в прошлое, трансформирует объекты описания» [3, с. 33]. Условно можно говорить о двух временных планах – героя и автора. Время героя циклично, оно ритмизируется восхождением и заходом солнца. Мотив дороги – пути здесь наиболее частотный. Однако на первый план выходят переживания героя.
Очень интересен постоянный мотив одиночества: «Если кому случалось совершенно одинокому бродить вдали от родины, затираться и исчезать в этом океане чужого, невиданного, непохожего ничем на свое родное и знакомое, слышать кругом непонятную речь и чувствовать себя какою-то щепкою разбитого корабля, занесенною в чужое, неведомое море, – тот поймет меня» [5, с. 59]. Языковой диссонанс и тоска по Родине провоцируют героя на размышления и диалоги с самим собой. Идеальными собеседниками становятся соотечественники: «…я им очень обрадовался – так давно, казалось, не видел ни одного соотечественника среди этой басурманщины» [6, с. 214].
Контакт с жителями посещаемых городов укладывается в рамки линейного времени и носит бытовой характер. Это именно мгновение, но растворенное в быте, лишенное надвременного значения. Цель диалогов, которых крайне мало, обычно сводится к просьбам подсказать что-то. Таково, например, желание узнать у горожанина, как пройти к памятнику Сервантеса; в итоге приходится объясняться знаками, потому что получатель сообщения не понимает ни «по-христиански», ни «чисто русского» [5, с. 58]. Или заговорить вынуждают обстоятельства (например, беседа с извозчиком), которые завершаются вежливым отказом путешественника со словами
«no comprendo» – «и тем разговор кончался; а когда я отвечал ему по-русски, он оглядывался на меня и скалил зубы. В конце концов мы остались очень довольны друг другом» [Там же, с. 109].
При необходимости дать характеристику людей, живущих в Испании, Мордовцев нередко прибегает к цитированию – и уповает на мнение того, «кто лучше скажет» (на мнение В.П. Боткина). Целью такого цитирования является расширение информационной сферы. Художественное пространство расширяется за счет интертекстуальных связей. Мордовцев постоянно прибегает к цитированию «Писем об Испании» Боткина при попытках описать явления, которые, в частности, противоречат взглядам путешественника, но могут заинтересовать читателя. Зачастую обширные цитаты компенсируют недостаток возвышенных, лирических фрагментов. Например, очерк «По Испании» начинается словами Боткина: «Минута блаженства есть минута немая. Представьте же себе, что эта минута длится для меня здесь вот уже три недели. В голове у меня нет ни мыслей, ни планов, ни желаний; словом, я не чувствую своей головы; я ни о чем, таки совершенно ни о чем не думаю» [Там же, с. 9]. Эта цитата, выражающая восторг путешественника, повторяется еще раз, но для противопоставления собственным переживаниям повествователя: «Я не понимаю состояния духа Боткина, когда он, передавая свои впечатления и всю ту поэзию, какую навевала на его душу вся Гранада <…> Я “чувствую свою голову”, как чувствуешь иногда мозоль» [Там же, с. 233–234].
Эти впечатления соответствуют той Испании, в которой вынужден находиться путешественник, там, где «Христофора Колумба считали сумасшедшим; где Филиппа II и Карла V не посадили на цепь только по недоразумению, а Торквемаду не сожгли на костре по ошибке, где, наконец, сам великий Цезарь схватил лихорадку» [Там же, с. 10–11]. Например, в Италии невольно вспоминаются строки из «Кориолана» Шекспира, где «глупые неблагодарные римляне изгоняют из своего города героя кориолов» [6, с. 99].
Быт и люди описаны с помощью обильного цитирования, ведь как такового контакта не происходит; мгновенные столкновения демонстрируют неприятие чужого и тщетность попыток вступить в диалог – как по причине незнания языка, так и по личным соображениям путешественника, который признается, что знакомства только мешают «наблюдать предметы и сосредоточиваться, впитывать в свою душу видимое» [5, с. 270].
Границы текстов также расширяются за счет использования реминисценций и аллюзий, как, например, в очерке «По Италии. Путевые Арабески», где уже заголовочное сущ. арабеска акцентирует реминисцентную природу материала. В толковом словаре арабеск ( арабеска ) – «узорчатый орнамент из стилизованных листьев, цветов, геометрических фигур и т. п. <…> Собрание мелких произведений литературных, музыкальных» [1, с. 52]. В данном контексте можно говорить об арабесках как о «свободной красоте» – в противопоставлении «сопутствующей красоте» [5, с. 169], что также подразумевается в тексте. В рамках русской литературы, безусловно, это отсылка к «Арабескам» Гоголя.
В очерке «По Италии. Путевые арабески» диалоги с самим собой наряду с лирическими отступлениями, красочными и подробными описаниями города занимают особое положение. Например, в «навевающем тоску» Риме: «Я долго сидел, прислушиваясь к этому голосу большого города, к этим отзвукам жизни, к этим отзвукам движения. Что я слышал в них – ничего. Но я прислушивался, я невольно ловил моим слухом этот неясный гул. В гуле этом мне чудилось что-то очень далекое, прошлое без возврата и в то же время присущее мне, знакомое, родное: – то были мои собственные думы, которые переносили меня в далекое прошлое» [6, с. 98–99]. Мгновение настоящего перетекает в длительное, почти бесконечное время размышлений.
В обоих циклах очерков действительность представляется значимой частью истории: «А теперь посмотрим самих императоров, владык этого античного мира. Поглядим, что говорят их мраморные лица, какие думы отлились на них в мраморную форму» [Там же, с. 84]; или: «Сколько здесь пролито испанской и мавританской горячей крови! Удивительно, как всегда волнуют душу исторические места, с которыми связано столько воспоминаний и которые становятся вам родными, дорогими вашему сердцу» [5, с. 198]. Цель – показать читателю историю, «которая оставила разные галереи, старые картины, статуи, города, башни» [Там же, с. 230]. Поэтому общению с людьми отводится так мало места.
Универсальным кодом для познания действительности (прежде всего городской) оказывается искусство. «Миг» и «момент» вбирают в себя значительные отрезки прошлого, мимо которого проходит настоящее. Мгновение становится вспышкой, всплеском эмоций, оно воздействует на подсознание, позволяет перемещаться во времени и пространстве. Будь то миг встречи с домом Пилата в Севилье, где в качестве «первичного взрыва» осмысляется библейская история, на этапе «редактирования в механизмах сознания» появляются воспоминания об увиденной ранее арке Пилата в Иерусалиме, слова А. Н. Пыпина о лондонской Альгамбре. Миг вмещает в себя и ассоциативные ряды, трансформируется в пределах накопленного культурного пласта и в рамках «удвоения» выливается в эпитеты «прекрасное» и «ужасное» из песни кобзаря Вересая. Или, например, первая встреча с картинами «гениального» Мурильо, мадонны которого описываются словами Боткина [Там же, с. 75]; далее следует сравнение с картинами Рафаэля и, наконец, осмысляется степень влияния искусства на человека вообще. А увиденные впервые портреты исторических лиц стали поводом к тому, чтобы вспомнить «истинную, горькую Историю Испании и Европы» [Там же, с. 79–80], передать свои чувства словами Шопенгауэра, вернуться мысленно на историческую выставку Петербурга в 1870 году, которая не произвела впечатления.
«Поскольку миги и мгновения не обладают какой-либо объективной мерой длительности, с их помощью легко описывается субъективное эмоциональное время, где мигу или мгновению может соответствовать целый фрагмент жизни» [8, с. 121]. Миг – такая частица времени, которая насыщена эмоциональными переживаниями, поэтому может растягиваться и сочетать в себе самые различные аспекты бытия. Для литературы путешествий мгновение становится не объективной данностью, а особенностью восприятия. Тексты Д.Л. Мордовцева эмоционально насыщены, и за внешней информативностью скрывается стремление к интерпретации чувственных впечатлений и порождению новых впечатлений у читателя.
Список литературы Жанровая специфика "путешествий" Д. Л. Мордовцева
- Арабеск, арабеска//Толковый словарь русского языка: в 4 т. Т. 1. М.: Сов. энциклопедия, 1935. С. 52.
- Гуминский В. М. Путешествие//Литературный энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 314-315.
- Кант И. Критика способности суждения. СПб.: Наука, 1995. 512 с.
- Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М.: Гнозис: Прогресс, 1992. 272 с
- Мордовцев Д. Л. По Испании. СПб.: Тип. Н. А. Лебедева, 1884. 292 с.
- Мордовцев Д. Л. По Италии. Путевые Арабески. СПб.: Тип. Н. А. Лебедева,1884. 248 с.
- Шачкова В. А. «Путешествие» как жанр художественной литературы: вопросы теории//Вестник Нижегородского университета. Серия: Филология. Искусствоведение. 2008. №3. С. 277-281.
- Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М.: Гнозис, 1994. 344 с.