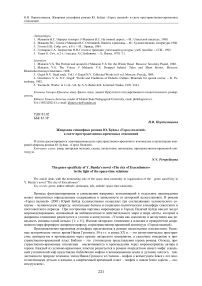Жанровая специфика романа Ю. Буйды "Город палачей" в свете пространственно-временных отношений
Автор: Перепелицына Наталья Викторовна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 10, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается доминирующая роль пространственно-временного континуума в организации жанровой природы романа Ю. Буйды «Город Палачей».
Жанр, авторская позиция, сказка, антиутопия, антисказка, пространственно-временной континуум
Короткий адрес: https://sciup.org/148178485
IDR: 148178485 | УДК: 82.02
Текст научной статьи Жанровая специфика романа Ю. Буйды "Город палачей" в свете пространственно-временных отношений
Процесс функционирования и совмещения жанровых контаминаций в отдельном произведении может наполняться определенным содержанием в зависимости от авторской целеустановки. В романе «Город палачей» (2001) Юрий Буйда художественно осмысляет три составляющих человеческого социума – человеческую природу, ментальные базисы и социально-политическую атмосферу советского и постсоветского периода. При построении картины миропорядка в Городе Палачей Буйда вводит модус миромоделирования, основанный на амбивалентности действительного мира и мира мечты, который в жанровом отношении реализуется в утопии и антиутопии. «Утопия как идеология и антиутопия как реальность связаны одной цепью» [1, с.11]. Именно авторское отношение к идеалам и приоритетам современного мира формирует жанровую природу и пространственно-временной континуум «Города палачей».
Пространственно-временная атмосфера представлена в романе несколькими плоскостями. Реальные исторические эпохи: время Ивана Грозного, 50-е гг. и конец ХХ в. – это антиутопическое пространство, развернутое в произведении через призму авторского восприятия, а сказочное измерение и пространственно-временной пласт Библии – это утопические представления героев романа. Отсюда, пространственно-временные отношения высвечиваются в произведении через мировосприятие автора и героев. Каждый из условно-временных пластов реализуется в романе посредством своего мифа: идеальный утопический мир представлен библейским мифом о возникновении земли и духовно чистого, тождественного природе человека; эпоха Ивана Грозного и Сталина – мифом о всемогущем Зевсе с его многочисленными детьми и женами, а современный временной пласт – мифом о новом homo sapiens – «новом русском».
Роман Ю. Буйды «Город палачей» начинается с описания вполне реального города, похожего на все средневековые города. Однако вступление к роману заканчивается примечанием «Из записок о новой России», где и возникает наложение политико-социальных систем двух эпох. Идет параллельный процесс универсализации современности, что способствует сближению исторической и современной линий романа и соединению “чужой” структуры с романной. Современный план – это повествование о персонажах ХХ в., которые постепенно обнаруживают поначалу скрытое, а затем искусно воссозданное двой-ничество по отношению к историческим образам. На реальность существования города указывает тот факт, что повествователь сам был там, и картина города воспринимается читателем как биографический факт из жизни автора. Кроме того, повествование напоминает дневниковую запись, сведенную до уровня документальности. Далее подлинность событий у читателя не вызывает сомнения, и именно тип героя и совпадение исторических реалий становятся тем связующим звеном, который совмещает два временных пласта в произведении.
Иван Бох – это типичный, собирательный персонаж. По происхождению Бох «из городка, наугад нарисованного на карте России личным палачом Ивана Грозного голландцем Иваном Бохом и полученного им во владение, ибо рисунок – река и холмы, леса и болота – непостижимым образом материализовался». Династия Бохов ведет свое начало с эпохи Ивана Грозного. Всех Бохов охраняют злые псы, которые рыщут повсюду и остаются невидимыми. Во времена Ивана Грозного собачья голова была атрибутом опричников, армия которых, во главе с Малютой Скуратовым, была создана царем для личной охраны. Несмотря на физическую смерть, Бох не умирает, не покидает повествовательный сюжет – он бессмертен. В дальнейшем он перевоплощается то в палача ХIХ в., то в его поведении угадываются и Берия, и Сталин, и Троцкий. Вокруг авторитарного правления Бохов в романе и строится антиутопическая модель Советского государства, где художественное время тождественно реальному. Происходит взаимодействие времен, когда герои перемещаются из одного пространства в другое. Однако пространство ограничено и именно такой миропорядок высвечивает «родовые особенности авторского эксперимента».
Интертекстуальный слой произведения, в котором происходит пространственно-временное совмещение, создается посредством традиционного антиутопического сюжета – появления города «из ниоткуда». История возникновения Города Палачей представлена в романе как легенда. «Бох придумал землю, и реки, и леса, и людей, и зверей, и все-все-все, а когда после смерти царя в семь тысяч девяносто втором году от сотворения мира палач с семьей и челядью прибыл в свои владения, он нашел там все, что придумал. Все, что увидел во сне. Может быть, это был величайший сон в истории Европы. Сон, впервые ставший явью до мелочей. И до сих пор мы живем в этом сне, потому что это видение – или части его – хранится в памяти потомков брабантского палача, в их крови и душе» [2]. Это придуманный город, но состоит он из конкретных реальных объектов, являясь как бы проекцией страны, материализовавшейся в романе в процессе опредмечивания. Часы на башне здесь управляемы, это пластический образ времени, которое контролирует верховный Бох. Виртуальный город, который, в отличие от реального, можно повернуть любой стороной, управляем и живет по определенной схеме, уже заложенной и прожитой кем-то до него. Убежать из Города Палачей невозможно. Прошлое его смутно, будущее непонятно: «…будущее давно задохнулось под спудом прошлого, превратившись в тошнотворный сон золотой» [2]. Золотой век утопического государства так и остался сном, во временных меридианах которого и вращается город Палачей, представленный в произведении в виде разветвленной образной системы со своими контурами и очертаниями. У Буйды утопия – это не мир будущего, а мир прошлого, подсознательного времени, а антиутопия – мир настоящего. Утопия сменилась антиутопией: герой романа пытается выбраться из оков, он хочет устроить жизнь по-своему. Люди одержимы мечтой попасть в город мечты «Хайдарабад», но город Палачей ограничен невидимой стеной, а собаки Боха рыскают повсюду, и повсеместно присутствует страх двадцать первой комнаты. Наряду с этим жители города живут по законам сказочной условности, проходят обряд посвящения, отправляются на поиски своих возлюбленных, вступают в схватку с чудовищными политическими машинами, испытывают чудесные превращения и т.д.
Утопическое пространство разворачивается в произведении посредством художественного приема «текст в тексте». Герой романа Петром Иванович, подобно утопическим героям, выступает в роли путешественника, очутившегося на острове мечты, где находился «чудесный город – с башнями, шпилями, флюгерами вниз». «Закрытость, изолированность утопического острова, достигается парадоксальным способом – предельной открытостью» [4]. Герой попадает на остров во сне и также легко его покидает. От его лица ведется повествование о чудесном городе, свободном от политического и социального гнета. «Изложение от первого лица – наиболее типичная повествовательная техника, используемая писателями-утопистами, создающая эффект присутствия и вовлекающая читателя в процесс рассмотрения изображаемого мироустройства» [4, с.18-19].
Утопическое пространство – это остров или город, где прекрасное и полезное образуют нерасторжимое единство. В произведениях Буйды прекрасное отождествляется с уродливым и всегда полезно обществу. Эти герои близки природе и национальным традициям и рассматриваются не в рамках политического устройства, а внутри своего собственного мира. «Неотъемлемым элементом семиосферы лите- ратурной утопии является противопоставление двух реальностей: эмпирического мира обыденности и мира трансцендентного, вымышленного. Несовершенство первого из миров служит строительным материалом для совершенного миропорядка» [3]. Поэтому идеальный сказочный мир у Буйды сопрягается с утопическим устройством мира и реализуется в антиутопической системе координат.
Автору необходимо было слияние двух жанров – сказки, поскольку она является отражением ментальной картины русского мира, и антиутопии, т.к. в этом жанре проявляется активное индивидуальное начало. Это позволяло раскрыть обреченность простых людей, несмотря на их стремление к добру и правде, следование сказочным канонам. Тем самым создается ощущение отброшенности от устоявшихся корней, от истории, от веками складывавшихся основ народного мировоззрения.
«Конечная цель сказки – победить время и смерть и представить непредставимое в образах и символах. Такая установка отражает потенциальную мечту человека о бессмертии» [5]. Бессмертие – это тот философский вопрос, решение которого писатель ищет во всех своих произведениях и находит его в искусстве слова. «Почитание слова как авторитета во Вселенском творении образует стержень мироотно-шения как Старого, так и нового Света… Слово выступает в данном случае в качестве своего рода медиума между вещным бытием и идейным инобытием, адекватность связи между которыми детерминируется истинностью знания. Дарованное человеку слово способно описывать не только состояние наличного мира, но и передавать трансцендентность недоступного человеку инобытия» [3]. Авторитет слова у Буйды находит свое преломление в теории о совмещении временных пластов в искусстве, где «бессмертие – образный вариант категорий пространства–времени и бесконечного. А стало быть – лишь следствие образных представлений» [6, с.223-240].
Миф о новом русском разворачивается в истории отношений Боха и Цыпы Ценциппер, построивших свой частный бизнес, ловко манипулируя сознанием людей и опираясь на основные ментальные «слабости» народа. Становление бизнеса представлено писателем в комическом ключе, где Бох опять же становится вершителем судеб, а простые люди так и остаются носителями примитивного архаического сознания. Представления русских людей о свободе и счастье тесно связаны с утопической мечтой о господстве Бога на земле, который посылает на землю благодать и вершит чудеса. Автор с горькой иронией выделяет две основные особенности русского менталитета: страх, что скажут люди, и постоянное ожидание чуда. Утопические мечты, представленные в произведении посредством сказочной условности, приходят к ним во снах, и живут они в застывшем пространстве и времени.
Итак, совмещение нескольких пространственно-временных пластов продиктовано в романе синтезом жанровых установок утопии-сказки и антиутопии, выбор которых мотивирован стремлением автора создать целостную картину русского сознания в его национальном, социальном, духовном и нравственном выражении. Автор явно выражает иронию по поводу существующего миропорядка (и в 1950-е гг., и в конце ХХ в.) и горечь в отношении морального упадка, отхода от национальных традиций. В романе Буйды реализуются три диаметрально противоположные модели мира: идеальный мир сказки, существующий в ореоле национальной русской традиции, и трагическая реальность тоталитаризма, приведшего к эпохе всеобщей развращенности и бездействия. Мир сказки – это идеальное утопическое пространство, о котором мечтают и несчастные юродивые, которых в произведениях Буйды большинство, и «самые» умные и красивые. Модель послевоенной эпохи реализуется в жанре антиутопии, а современный мир обрисован по канонам иного жанра – антисказки, в котором сюжет и мотивно-образная организация повествования закономерно потребовали совмещения утопического, антиутопического и сказочного мира.