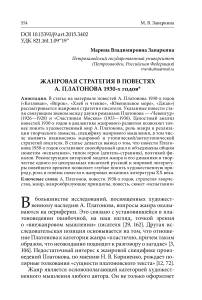Жанровая стратегия в повестях А. Платонова 1930-х годов
Автор: Заваркина Марина Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.13, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье на материале повестей А. Платонова 1930-х годов («Котлован», «Впрок», «Хлеб и чтение», «Ювенильное море», «Джан») рассматривается жанровая стратегия писателя. Указанные повести стали связующим звеном между двумя романами Платонова - «Чевенгур» (1926-1928) и «Счастливая Москва» (1933-1936). Целостный анализ повестей 1930-х годов в диалектике жанрового развития позволяет точнее понять художественный мир А. Платонова, роль жанра в реализации творческого замысла, специфику жанрового мышления, в том числе выявить взаимосвязь жанровой и утопической/антиутопической стратегий писателя. В статье делается вывод о том, что повести Платонова 1930-х годов составляют своеобразный цикл и объединены общим сюжетом «испытания», типом героя (деятель-странник), поэтикой финалов. Реконструкция авторской модели жанра и его динамики в творчестве одного из центральных писателей русской и мировой литературы новейшего времени позволяет глубже понять художественную природу, роль и генезис повести в жанровых исканиях литературы XX века.
А. платонов, повести 1930-х годов, стратегия творчества, жанр, жанрообразующие принципы, повесть, сюжет "испытания"
Короткий адрес: https://sciup.org/14748949
IDR: 14748949 | DOI: 10.15393/j9.art.2015.3402
Текст научной статьи Жанровая стратегия в повестях А. Платонова 1930-х годов
В большинстве исследований, посвященных художественному наследию А. Платонова, вопросы жанра оказываются на периферии. Это связано с установившейся в пла-тоноведении ошибочной, на наш взгляд, точкой зрения о «внежанровом мышлении» писателя [29, 162]. Другая исследовательская позиция основывается на том, что отношение Платонова к категории жанра «пластично, причем таким образом, что неожиданно подводит к разговору о загадке» [3, 106]. Недостаточный интерес к жанровой специфике произведений Платонова, по мнению Н. В. Корниенко, рождает полярные толкования «сущности платоновского текста» [12, 72].
Жанр является основополагающей категорией художественного мышления любого автора. Он не только оформляет материал, но и «помогает» писателю «встроиться» в определенную традицию, которая, в свою очередь, характеризует его художественный метод, его концепцию мира и человека. Жанровый аспект является важнейшей частью и литературоведческого анализа, который, по мнению Ц. Тодорова, всегда осуществляется в двух направлениях: «…от произведения к литературе (или жанру) и от литературы (жанра) к произведению» [24, 10].
Стратегию творчества мы понимаем как совокупность принципиальных установок писателя, его творческое целеполагание и выбор поэтических средств для осуществления художественного замысла1. Первая по важности проблема, которую решает писатель, — выбор жанра произведения. По мнению П. Н. Медведева, «художник должен научиться видеть действительность глазами жанра. Понять определенные стороны действительности можно только в связи с определенными способами ее выражения» [17, 148]; (о принадлежности этой работы П. Н. Медведеву см.: [9], [10, 63—80], [30]).
Повести А. Платонова 1930-х годов — «Котлован» (1930), «Впрок» (1930), «Хлеб и чтение» (<1931>), «Ювенильное море» (1931—1932), «Джан» (1934—1935) — входили в литературно-исторический контекст неравномерно: при жизни писателя была опубликована только повесть «Впрок» («Красная новь», март 1931); так же неравномерно и изолированно друг от друга они изучались. Поэтика жанра, однако, так и не стала предметом специального рассмотрения.
В 2005 году вышла первая и единственная работа на эту тему — монография С. И. Красовской «Художественная проза А. П. Платонова: жанры и жанровые процессы» [13]. В исследовании жанров платоновской прозы С. И. Красовская основное внимание сосредоточила на рассказе как «жанровом контрапункте» творчества писателя, в котором сошлись и нашли оригинальное авторское решение процессы романизации, новеллизации и циклизации, проходившие в литературе первой трети ХХ века [13, 21]. В итоге рассказ предстает в работе Красовской «метажанром»2, поглотившим все остальные жанры в творчестве А. Платонова, в том числе и повесть, которую, по мнению исследователя, можно описать
«языком рассказа» [13, 21]. Однако нельзя не признать, что в прозе А. Платонова конца 1920-х — середины 1930-х годов исключительно важную роль играет жанр повести: «Котлован», «Впрок», «Хлеб и чтение», «Ювенильное море», «Джан» имеют именно это авторское жанроопределение.
Повесть традиционно определяют как самобытный жанр русской литературы. В древнерусской литературе термин «повесть» не означал определения жанра, а лишь указывал «на эпический характер произв<едения>, на то, что оно призвано о чем-то объективно поведать» [11, 814] (разрядка В. В. Кожинова. — М. З .). Литературные принципы выделения жанров, как указывает Д. С. Лихачев, появляются только в XVII веке: усиливается интерес к частной жизни человека, возникает новый герой, в литературе возрастает личностное начало [16]. Процесс пробуждения сознания личности во второй половине XVII века отразился на развитии жанра бытовой повести, которая представила «новую концепцию действительности, человека и его судьбы» [8, 14].
Активное изучение повести, начатое еще в XIX веке, было продолжено в советское время и в наши дни (cм.: [2], [4], [5], [8], [14], [19], [20], [21], [22], [23], [25], [26], [27], [28]). Среди жанрообразующих принципов повести исследователи выделяют: 1) тип повествования [2, 42], [4, 5], [8, 42]; 2) «объем содержания» [8, 44]; 3) сюжетно-композиционную структуру [2, 86], [4, 5], [8, 44], [11, 814], [22, 17]; 4) хронотоп [4, 5], [22, 17]; 5) концепцию личности [6, 61], [8, 70], [15, 30], [22, 13]; 6) поэтику финалов [8, 44—45], [28, 8]. В. Н. Захаров считает главным жанрообразующим принципом повести тип повествования: «Каждый жанр “помнит” свое происхождение. Обычно оно выражается в слове. Так, внутренняя форма слов “рассказ” и “повесть” до сих пор во многом определяет концепцию жанра» [8, 113]. Повесть — это «весть о том, что было», изначально в литературе — «запись предания» [8, 14]: «…буквальный смысл слова “по-весть” оказывал определяющее воздействие на формирование жанровой концепции произведений» [8, 17]. Например, в творчестве Ф. М. Достоевского «повесть — это еще и особый порядок изложения события, имеющий <…> жанровое значение» [8, 27].
В русской критике XIX века еще не было четкого разграничения понятий «роман», «повесть», «рассказ» [7, 165]. Термины «повесть» и «роман» вообще «нередко оказывались синонимами», более того, «общим местом» стало понимание повести как вида романа [8, 14—15]. Критическое осмысление повести началось в статьях В. Г. Белинского, но и у него эти жанры часто становились «неразличимыми понятиями, определяемыми одними и теми же словами» [8, 15]: «…по-весть — распавшийся на части <…> роман; глава, вырванная из романа»3. В. Н. Захаров утверждает, что «возможность различения повести и романа появилась, когда произошла дифференциация их жанрового содержания: русская повесть 30—40-х годов обратилась к исследованию конфликта “маленького человека” с государством и обществом» [8, 17].
В отличие от рассказа, который «был сообщением со свободным порядком изложения» [8, 27], а также от сказа (который выделялся в «нашей науке начиная с 20-х годов» как «разновидность рассказа» с установкой на чужую речь [8, 42]) повесть «предъявляла к изложению определенные требования: оно должно быть “систематическим”, “факт за фактом”, в том порядке, как все произошло. Рассказ и сказ тяготели к устной речи, повесть — к письменной, что было следствием давней литературной традиции» [8, 43].
Жанр рождается на «пересечении» традиции и новаторства, поэтому жанроформирующими факторами являются не только «память жанра» и историческое время, но и творческая индивидуальность художника, а значит, у повести Платонова есть свои жанрообразующие принципы.
А. Платонов начал свой творческий путь со сборника стихов и публицистики и постепенно пробовал себя в разных прозаических жанрах — от рассказа до романа. Особое место в творчестве писателя занимают пьесы, сказки и сценарии, однако именно повесть остается доминирующим жанром на ключевом этапе его творчества (конец 1920-х — начало 1930-х годов). Возможно, причина — в художественноструктурных особенностях повести, являющейся наиболее приемлемой формой для изучения и анализа жизни переходной эпохи. О непосредственной связи содержания повести и современной действительности писал еще В. Г. Белинский, исследовавший жанры как «формы времени»4.
Повести Платонова первой половины 1930-х годов написаны в сложный переходный период: НЭП сменяется индустриализацией, коллективизацией, первыми «пятилетками», идет активное построение социализма. Параллельно формируется советская литература — непосредственная участница строительства новой жизни, оформляется метод социалистического реализма, диктующий свои нормы и ведущий к политизации и идеологизации искусства. В основе создания новой советской литературы лежат два постановления: ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» (1925) и ЦК ВКП(б) «О перестройке литературнохудожественных организаций» (1932). Последним будут распущены все литературные группы, уничтожены альтернативные соцреализму направления и взят курс на создание единого Союза советских писателей, в руках которого отныне окажется судьба русской литературы.
Модель жанра повести, складывающаяся в творчестве писателя в 1930-е годы, не только органически связана с его творчеством 1920-х годов, но и имеет существенные новации. Открытая, нацеленная на диалог с жизнью и культурой жанровая модель повести Платонова позволила писателю использовать содержательные и формальные возможности других — как «старых», так и «новых» — жанров литературы.
Например, к «метажанру» советской литературы можно отнести жанр производственного романа, столь популярный в 1920—1930-е годы. Производственный роман стал жанром, на языке которого заговорила советская утопия. Несмотря на то, что у Платонова производственного романа как такового не было, повести «Котлован» и «Ювенильное море» содержат ряд типологических признаков этого жанра. В повести «Впрок» писатель использует художественные возможности жанров очерка и хроники. Философские мотивы повести «Джан» вводят это произведение в более широкий культурно-исторический контекст, но тема строительства новой жизни актуализирована и здесь. Однако развитием сюжета, образной системой, неповторимым стилем Платонов разрушает рамки жанров советской литературы и «выходит» из тупика утопии. И во многом писателю «помогает» выбранный жанр повести.
Во-первых, повесть имеет открытую художественную структуру: «в ходе эволюции повесть, испытывая постоянное влияние других жанров, приобретает многие их черты» [27, 9—10]. Это позволило Платонову трансформировать в своих повестях образы, сюжет, темы, специфику конфликта производственного романа или использовать жанровые возможности очерка и хроники. Во-вторых, если в рассказе на первое место выходит событие, случай, отдельный эпизод из жизни человека, а роман «стремится к универсальному воплощению действительности в искусстве» [8, 44], то повесть ставит в центр повествования человека, его проблемы. Данная черта повести не только делает сюжет произведений Платонова антропоцентрическим, но и позволяет рассматривать его творчество в контексте русской классической литературы, отличающейся своим гуманистическим пафосом. В-третьих, особый тип повествования, который предполагает описание событий в том порядке, как все произошло, создает впечатление достоверности описываемых событий. В-четвертых, у повести своя «жанровая концепция времени» [8, 65]: между описываемыми событиями и настоящим временем (и автора, и читателя) возникает «эпическая дистанция», событие становится «абсолютным прошлым»5. Это позволяет писателю дать анализ происходящих событий и выводит на первый план голос автора, по сравнению, например, с романом, где несколько сюжетных линий, переплетение судеб героев, их мыслей, создают полифонию, в которой сложно разглядеть авторскую точку зрения.
Таким образом, жанровую стратегию в повестях А. Платонова 1930-х годов можно обозначить как стратегию синтеза. Жанровый синтез нашел свое выражение прежде всего на уровне сюжета. Н. Д. Тамарченко называет одним из главных жанрообразующих принципов повести «тип основной сюжетной ситуации» [22, 11], который может выражаться в трех формах: «испытание социума», «испытание героя», «испытание идеи» [22, 12—13]. Повести А. Платонова 1930-х годов — от
«Котлована» до «Джана» — тоже можно рассматривать как варианты единой сюжетной модели — сюжета «испытания», который в каждом произведении неразрывно связан с философской или этической проблематикой. Сюжет «испытания» становится у Платонова частью сюжета «второго смысла» (термин самого писателя)6.
В повести «Котлован» актуализирована гносеологическая проблематика, перед нами сюжет «испытания истины». Традиционный для жанра повести циклический сюжет «ухода — испытания — возвращения», центром которого становится «испытание героя» [23, 86—87], реализован в произведении неполно, как бы пунктирно, переходя из текста в подтекст. В «Котловане» находим черты романной сюжетно-композиционной структуры (обширная система персонажей, несколько самостоятельных сюжетных линий, открытый финал и т. д.). Сближаясь в структурно-типологическом отношении с производственным романом, «Котлован» из социального «романа о строительстве» превращается в философскую повесть о поиске истины (сюжетная реализация идиомы «докопаться до истины»).
В повести-хронике «Впрок» сюжет «испытания» развернут как «испытание правды», что задано хроникально-очерковой формой произведения. Платонова волнует вопрос, как осуществить «правду социализма» в колхозном строительстве, и он вступает в спор не только со Сталиным, но и полемизирует с горьковской трактовкой «новой правды», которую должен был утверждать советский очерк. Декларируя через второе жанровое определение (хроника) связь с историческим временем, писатель отказывается от очерковой формы освещения событий «от автора» и обращается к форме «рассказ в рассказе».
В повести «Ювенильное море» Платонов более очевидно, чем в «Котловане», использует «штампы» производственного романа, но с явным ироническим подтекстом. С одной стороны, это превращает повесть в квазиутопию, с другой — сюжет «испытания надежды», воплощающий в себе юношеские мечты самого писателя, а также оптимистический финал свидетельствуют о перевесе утопического над антиу-топическим в жанровой модели произведения.
Религиозно-философская и этическая проблематика повести «Джан» находит свое воплощение в сюжете «испытания веры». В этой повести в большей степени, чем в предыдущих, важен циклический сюжет. Вера в социалистическую идею, преломленная в повести через зороастрийский миф, «испытывается» на этическую прочность и истинность. Главный герой открывает для себя тщету государственного утилитарного рая земного, где нет свободы воли, а любовь к ближнему подменена любовью к «дальнему человечеству». В конце 1920-х — середине 1930-х годов А. Платонов выстраивает свою идею «душевного социализма», пытаясь примирить христианский идеал и социализм.
Во всех указанных произведениях сюжет «испытания» определяет жанровую концепцию повести, которая традиционно сосредоточена на жизни героя и его судьбе (рассказ «не вмещает» жизнь человека, а романное пространство всегда «больше» отдельной человеческой судьбы). Повести Платонова объединены образом героя-странника, но в каждом произведении и главном герое актуализировано то или иное начало, в совокупности они представляют эволюцию героя-странника. Героя с доминантой со-знания (в повести «Котлован» в системе персонажей представлено несколько типов познания истины) сменит герой со-зерцания (в повести-хронике «Впрок» даны разные точки зрения и ракурсы видения «новой правды»). В повести «Ювенильное море» появится герой со-чувствия и со-действия (как солидарность в мечте и желании осуществить социализм). Наконец, в повести «Джан» спустившийся с «горы ума» Назар Чагатаев — это герой сердца, а определяющая его личность этическая идея, имеющая в подтексте христианские заповеди, делает Чагатаева героем со-вести. Идея синтеза, таким образом, звучит у Платонова уже на уровне «лексических сюжетов»: на это указывает приставка «со-» во всех вышеперечисленных философских и этических категориях. Однако, актуализируя в главных героях то или иное доминирующее начало, Платонов показывает недостаточность идеи каждого из них.
Сосредоточенность на абстрактной идее (а всякая идея меньше жизни) делает человека «узником» мысли; «мировой тип» узника найдет свое художественное воплощение в романе А. Платонова «Счастливая Москва», но его «матрица» складывается уже в повестях 1930-х годов.
Важную роль в жанровой стратегии играет поэтика финалов. В сюжете «испытания» первостепенное значение имеет эволюция героя. Финал повести «Котлован» исследователи чаще всего определяют как открытый. С одной стороны, циклический сюжет приводит Вощева в исходную точку его духовных исканий: он так и не нашел истину, он снова на распутьи. С другой стороны, возвращение у Платонова оказывается началом нового пути, пусть даже начинается он из тупика утопии. Мотив «прозрения» героя, возникающий на уровне сюжета «второго смысла» в повествовании о финальных событиях (смерть и похороны девочки Насти), актуализирует христианский подтекст.
В повести «Впрок» панорамный обзор происходящего превращается в замкнутый круг: герой начинает путь в колхозе «Доброе начало», а заканчивает в колхозе «Утро человечества», то есть из «начала» снова возвращается в «утро». На содержательном уровне это позволило писателю выразить сомнение в историческом движении вперед.
В повести «Ювенильное море» деятель-утопист Николай Вермо — самый статичный герой. На уровне фабулы финал повести открыт: на это указывает хронотоп «новой дороги» (герой отправляется в Америку). На уровне сюжета герой внутренне неподвижен, тождествен себе начальному — в пространстве той же утопической мечты, ориентированной на «дальнего».
Самая значительная эволюция героя происходит в «Джане». Путь-возвращение Назара Чагатаева можно рассматривать и как поиск матери-души, и как поиск родства с миром, и как поиск себя. Чагатаев уходил «просвещать-спасать» народ джан социализмом, а вернулся с кротким сознанием вечного ученичества человека в жизни, героем «сердечного» знания. Циклический сюжет, усиленный в повести мифом, указывает на внутренний подтекст «возращения» как
«возрождения» героя к новой жизни, в которой идея поверяется любовью. В отличие от повестей 1920-х годов, где доминирует хронотоп «дороги-ухода», в повести «Джан», завершающей цикл повестей А. Платонова 1930-х годов, обнаруживаем хронотоп «дороги-возвращения».
Еще одна составляющая жанровой стратегии А. Платонова — взаимодействие в художественном пространстве повестей нескольких утопических идей (и не столько их конфликт, сколько сосуществование), что свидетельствует об установке писателя на синтез идей, учет всего опыта прошлого, отказ от монистического взгляда на человека и мир.
Так, в повести «Котлован» смерть девочки Насти знаменует тупик как богдановской, так и федоровской утопий, а мотив «прозрения» героя оставляет у читателя надежду на христианское осуществление идеи «смерти — воскресения». Критика утопического замысла (главное «жало» антиутопии) ослаблено в произведении сомнением на уровне героя и автора в том, что социалистический идеал осуществим.
В повести «Впрок» Платонов ведет диалог не только со статьями Сталина и Горького, но и с «чаяновской кулацкой утопией»7. Сравнительный анализ повести А. Чаянова «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» и повести «Впрок» позволяет уточнить авторскую позицию в тексте, обозначить авторский идеал советской деревни.
Повести «Ювенильное море» и «Хлеб и чтение», которые, по замыслу автора, должны были составить первые две части трилогии под названием «Технический роман», имеют внутренние переклички на уровне сюжета («испытание надежды»), типа героя («деятель-странник»), мотивных оппозиций («голод/сытость», «плен/свобода», «хлеб/чтение»). Утопическое начало в повести «Ювенильное море» «пересекается» с антиутопическим планом повести «Хлеб и чтение», произведения как бы «корректируют» друг друга.
Главной темой повестей А. Платонова 1930-х годов стала тема строительства новой жизни на всех «фронтах». Для воплощения этой темы писатель обращается к традиционному для русской литературы жанру повести. Содержательные и структурные возможности жанра (аналитизм, изображение отдельных важных в жизни героя событий, сосредоточенность на судьбе героя) позволили А. Платонову иначе, чем это было предписано советской литературе, осветить тему строительства социализма. Вместе с тем написанные между двумя романами («Чевенгур» и «Счастливая Москва») повести А. Платонова 1930-х годов обнаруживают романный вектор, стремятся «перерасти» в роман.
Диалог А. Платонова на уровне жанра с производственным романом, советским очерком, с произведениями о советской деревне, а также с философией нового времени становится не только жанровой, но и антиутопической стратегией, которая, в свою очередь, имеет сложную природу. Можно сказать, что через «наложение» новых жанровых моделей советской литературы на традиционный жанр повести, а также через подключение библейских и мифологических архетипов в жанровом подтексте и рождается антиуто-пическая стратегия писателя.
Повести А. Платонова 1930-х годов можно рассматривать как единый цикл и новую эстетическую целостность. Произведения объединены единой сюжетной моделью «испытания», типом героя-странника. Важную роль во внутренней типологии героев и их композиции в цикле играют финалы повестей. Платоновский герой в повестях 1930-х годов эволюционирует от рациональных исканий «дальней» истины к этическому выбору любви к ближнему.
Примечания
* Исследование выполнено по гранту Министерства образования и науки России «Новые источниковедческие и текстологические исследования русской словесности XIX—XX вв.» (№ 34.1126).
-
1 В этом смысле стратегия совпадает с термином «телеология» в понимании Н. К. Пиксанова [18, 20].
-
2 Термин Н. Л. Лейдермана [15, 132—142].
-
3 Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя («Арабески» и «Миргород») // Белинский В. Г. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 1. М., 1976. С. 150.
-
4 Там же. С. 154.
-
5 Термины М. М. Бахтина (см.: [1, 403—406]).
-
6 См.: Платонов А. П. Фабрика литературы: литературная критика, публицистика. М., 2011. С. 78.
-
7 Фадеев А. Об одной кулацкой хронике // Андрей Платонов: воспоминания современников. Материалы к биографии. М., 1994. C. 277.
Список литературы Жанровая стратегия в повестях А. Платонова 1930-х годов
- Бахтин М. М. Эпос и роман (О методологии исследования романа)//Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. -М.: Художественная литература, 1986. -С. 392-427.
- Ванюков А. И. Русская советская повесть 20-х годов: поэтика жанра. -Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1987. -200 с.
- Вьюгин В. Ю. Андрей Платонов: поэтика загадки (Очерк становления и эволюции стиля). -СПб.: РХГИ, 2004. -440 с.
- Головко В. М. Поэтика русской повести. -Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1992. -192 с.
- Головко В. М. Русская реалистическая повесть: герменевтика и типология жанра. -М.; Ставрополь: Изд-во МГОПУ; Изд-во СГПУ, 1995. -439 с.
- Головко В. М. Герменевтика литературного жанра. -М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. -184 с.
- Дворецкий А. В. Избранное. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. -297 с.
- Захаров В. Н. Система жанров Достоевского (типология и поэтика). -Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1985. -208 с.
- Захаров В. Н. Проблема жанра в «школе» Бахтина (Бахтин, Медведев, Волошинов)//Русская литература. -2007. -№ 3. -С. 19-30.
- Захаров В. Н. Проблемы исторической поэтики. Этнологические аспекты. -М.: Индрик, 2012. -264 с.
- Кожинов В. В. Повесть//Краткая литературная энциклопедия. -М.: Советская энциклопедия, 1968. -Т. 5. -С. 814-816.
- Корниенко Н. В. Жанровое своеобразие повести А. Платонова//Взаимодействие метода, стиля и жанра в советской литературе: сб. науч. тр. -Свердловск, 1988. -С. 71-80.
- Красовская С. И. Художественная проза А. П. Платонова: жанры и жанровые процессы. -Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2005. -392 с.
- Кузьмин А. И. Повесть как жанр литературы. -М.: Знание, 1984. -112 с.
- Лейдерман Н. Л. Движение времени и законы жанра. -Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. -256 с.
- Лихачев Д. С. Возрастание личностного начала в литературе XVII в.//Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X-XVII веков. -СПб.: Наука, 1999. -С. 129-152.
- Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении. -М.: Лабиринт, 2003. -208 с.
- Пиксанов Н. К. Творческая история «Горя от ума». -М.: Наука, 1971. -400 с.
- Русская повесть ХIХ века: история и проблематика жанра/под ред. Б. С. Мейлаха. -Л.: Наука, 1973. -566 с.
- Русская советская повесть 20-30-х годов. -Л.: Наука, 1976. -456 с.
- Русская повесть как форма времени: сб. ст. -Томск: Изд-во Томского ун-та, 2002. -340 с.
- Тамарченко Н. Д. Русская повесть Серебряного века (Проблемы поэтики сюжета и жанра). -М.: Intrada, 2007. -256 с.
- Тамарченко Н. Д. Формирование новых канонов. Повесть//Теория литературных жанров/под ред. Н. Д. Тамарченко. -М.: Академия, 2012. -С. 84-90.
- Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. -М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. -144 с.
- Трудные повести: 30-е годы/сост., предисл. и комм. А. И. Ванюкова. -М.: Молодая гвардия, 1992. -590 с.
- Тузков С. А. Типология и поэтика русской повести начала ХХ века. -Кировоград: Имэкс ЛТД, 2006. -292 с.
- Тузков С. А. Русская повесть начала ХХ века. Жанрово-типологический аспект. -М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. -304 с.
- Утехин Н. П. Жанры эпической прозы. -Л.: Наука, 1982. -185 с.
- Чаликова В. Утопия рождается из утопии. Эссе разных лет. -London: Overseas Publications Interchange, 1992. -217 с.
- Zakharov V. The Concept of the Genre in Bakhtin's School (Mikhail Bakhtin, Pavel Medvedev, Valentin Voloshinov)//Social Sciences. -2008. -№ 1. -P. 49-62.