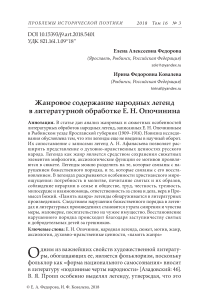Жанровое содержание народных легенд в литературной обработке Е. Н. Опочинина
Автор: Федорова Елена Алексеевна, Ковалева Ирина Федоровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.16, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье дан анализ жанровых и сюжетных особенностей литературных обработок народных легенд, записанных Е. Н. Опочининым в Рыбинском уезде Ярославской губернии (1909-1916). Новизна исследования обусловлена тем, что эти легенды еще не введены в научный оборот. Их сопоставление с записями легенд А. Н. Афанасьева позволяет расширить представление о духовно-нравственных ценностях русского народа. Легенда как жанр является средством сохранения сюжетных элементов мифологии, аксиологические функции ее мотивов проявляются в сюжете. Легенды можно разделить на те, которые связаны с нарушением божественного порядка, и те, которые связаны с его восстановлением. В легендах раскрываются особенности христианского мироощущения: потребность в молитве, почитание святых и их образов, соблюдение иерархии в семье и обществе, труд, честность, трезвость, милосердие и взаимопомощь, ответственность за слова и дела, вера в Промысел Божий. «Память жанра» легенды обнаруживается в литературных произведениях. Следствием нарушения божественного порядка в легендах и литературных произведениях становится утрата смирения и чувства меры, маловерие, посягательство на чужое имущество. Восстановление нарушенного порядка происходит благодаря заступничеству святых и добродетельных детей за грешников.
Е. н. опочинин, народная легенда, сюжет, мотив, жанр, аксиология, духовно-нравственные ценности, "память жанра"
Короткий адрес: https://sciup.org/147226167
IDR: 147226167 | УДК: 821.161.1.09“18 | DOI: 10.15393/j9.art.2018.540
Текст научной статьи Жанровое содержание народных легенд в литературной обработке Е. Н. Опочинина
О дним из важнейших свойств художественной литературы, обогащающих ее, является фольклоризм, поскольку фольклор как «форма национального самосознания» вносит в литературу «подлинные черты народности» [Азадовский: 46]. В. Я. Пропп особенно выделял легенду, утверждая, что это
«наиболее национальный из всех жанров русского фольклора» [Пропп: 273].
-
А. Н. Афанасьев, русский собиратель фольклора, известный своим интерсом к духовной культуре славянских народов, отмечал, что «народная песня и сказка <…> не раз обращались к священному писанию и житиям святых и отсюда почерпали материал для своих повествований», а «в легендах заимствованный материал передается далеко не в совершенной чистоте; напротив, он более или менее подчиняется произволу народной фантазии, видоизменяется сообразно ее требованиям и даже связывается с теми преданиями и повериями, которые уцелели от эпохи доисторической и которые, по-видимому, так противуположны началам христианского учения» [Афанасьев, 1859: 5–6]. После издания Афанасьевым (1859 г.) сборника русских народных легенд историк, этнограф, литературовед А. Н. Пыпин в стремлении определить жанровую специфику христианской легенды отметил, что она «останавливается исключительно на предметах, принадлежащих к области христианских верований и религиозной морали» [Пыпин: 181].
В «Литературной энциклопедии терминов и понятий» легенда (от латинского legenda — «то, что должно быть прочитано») определяется как жанр фольклорной несказочной прозы, осмысляющий чудесные события как достоверные [Зуева: 432–433]. В отличие от сказки, в которой очевидна установка на вымысел, легенда претендует на историзм, конкретику, реалистичность, одновременно обращаясь к области религиозно-мистического опыта. Г. А. Левинтон утверждал, что «легенда занимает место среди жанров, лежащих между мифом и историческим описанием». Ее особенность — «приуроченность к историческому времени» или «к переходу от мифологического времени к историческому» [Левинтон: 45].
По мнению А. А. Ухтомского, легенда соединяет прошлое и настоящее (создается в устной народной традиции, а затем уже записывается) и закрепляет те духовные доминанты, которые будут переданы последующим поколениям. Легенда включает в себя историческое повествование и его поэтическую обработку [Ухтомский: 29–33].
Р. Г. Назиров объяснял сходные фольклорные мотивы у разных народов особенностями мифологической картины мира. Так, в основе запрета оглядываться назад и наказания за его нарушение в мифах разных народов и Ветхом Завете (жена Лота превращается в соляной столп (Быт. 19)), по его мнению, «лежит архаическая черта человеческой психологии: неразличение субъекта и объекта. <…> Не видеть смертельной угрозы — это значит не быть увиденным ею» [Назиров: 35].
Одним из первых к изучению жанра легенды обратился А. Н. Веселовский. Он полагал, что легенда является средством перенесения сюжетных элементов мифологии в религиозную (христианскую) картину мира и показал как в фольклоре Западной Европы и России происходит развитие общих мотивов [Веселовский. Опыты… 1875–1877].
За основу классификация сказок и легенд в фольклоре берутся разные критерии: они систематизируются по жанрам, темам, сюжетам и мотивам. Первое издание народных сказок А. Н. Афанасьева (1855–1863) вышло без систематизации. При подготовке второго издания фольклорист классифицировал их, разделив на сказки о животных и о людях, последние, в свою очередь, — на волшебные и бытовые.
В настоящее время исследователи классифицируют сказки и легенды по системе Аарне-Томпсона (АТ). В 1910 г. финский фольклорист Антти Аарне предложил указатель сказочных типов, опираясь на их жанровую классификацию. Так, он выделил сказки о животных, собственно сказки (куда входят и легендарные сказки) и анекдоты. В 1912 г. им был составлен указатель финских этиологических легенд. Советский исследователь фольклора Н. П. Андреев в 1929 г. составил «Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне». Опираясь на труды Аарне, американский фольклорист Стив Томпсон в 1965 г. составил указатель не только сюжетов сказок, но и их мотивов, принципы выделения которых у Томпсона были недостаточно определены (см.: [Азбелев]). В 1979 г. составлен сравнительный указатель сюжетов восточнославянских сказок (переизд. 2004 г.), над которым работали Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Ка-башников, Н. В. Новиков [Сравнительный указатель сюжетов].
-
В. Я. Пропп систематизировал легенды по тематическому принципу, разделив их на легенды о святых и о грешниках, о семейных отношениях, космогонические и легенды о загробной жизни [Пропп: 125]. По классификации Т. В. Зуевой различаются этиологические (космогонические — о сотворении мира, этнологические — о начале человеческого рода, эсхатологические — о конце света), религиозно-назидательные (о Боге-Отце, о Христе, об ангелах и святых, о юродивых) и социально-утопические легенды [Зуева]. К. В. Чистов, в свою очередь, среди социально-утопических легенд, отражающих представления народа о справедливом социальном устройстве, выделял легенды «о золотом веке», «о далеких землях», «о возвращающемся избавителе» [Чистов]. Эти классификации необходимо дополнить также демонологическими легендами.
Среди литературных обработок народных легенд, записанных Е. Н. Опочининым в Рыбинском уезде Ярославской губернии в 1909–1916 гг.1, имеются этиологические (космогонические) легенды, где рассказывается о сотворении мира: «Как Бог век назначал человеку и домашней твари», «Откуда взялись водяные», «Гроза и окаянный» (ед. хр. 3, л. 1–8). В легенде «Как Бог век назначал человеку и домашней твари» Господь является на землю, чтоб навести порядок: установить, сколько лет будет жить человек и его домашние животные. Сначала он призывает животных, которые служат человеку, и предлагает лошади 30 лет жизни, а собаке и кошке — 20 лет. После вопроса Господа, довольны ли домашние животные этими сроками, каждый из них выказывает недовольство: последние 10 лет они не смогут как следует служить человеку, поэтому для них жизнь станет мучением. Животные просят Господа, чтобы он сократил им срок жизни на 10 лет. Господь соглашается и призывает человека, ему он дарит 40 лет жизни и также спрашивает, доволен ли человек. В ответ слышит просьбу прибавить ему срок жизни, поскольку после 40 лет жизнь человека только и начнется, дети подрастут, и человек просит Господа, чтобы Тот дал ему возможность увидеть, как будут жить дети и внуки. Господь соглашается и дарит человеку первые 10 лет от лошадиного срока жизни (в 50 лет «будешь ты везти тяготу не пуще коня»), вторые 10 лет — от собачьего срока жизни (в 60 лет
«живи да оглядывайся»), третьи 10 лет — от кошачьего срока (в 70 лет «валяйся на печи да отдыхай!») (ед. хр. 3, л. 5–8). В этой легенде иносказательно раскрывается философская идея о разных этапах жизни человека. Остроумное сопоставление человеческой жизни с жизнью животных указывает на постепенное умалении возможностей человека после 40 лет. Подобной легенды нет в сборнике Афанасьева, но сюжет «срок жизни людей и животных» (АТ 828) является сквозным для народных легенд [Сравнительный указатель сюжетов].
В легендах «Гроза и окаянный», «Откуда взялись водяные» повествуется о том, как Гроза, по приказанию Господа, преследует нечистого духа и загоняет его сначала в осину, а потом — в воду. В легенде «Откуда взялись водяные» отражаются особенности отношения местных жителей к дарам природы: весенние грибы, сморчки и строчки, традиционно не употреблялись в пищу в Ярославской губернии, поскольку эти грибы появились от сморчков и плевков «окаянного», который бежал от Грозы (ед. хр. 3, л. 4). Мораль легенды «Гроза и окаянный» разъясняет понятие страха Божия: «А бояться Грозы человеку не надо: кого Гроза убьет, того Бог грехами простит» (ед. хр. 3, л. 3). Страх перед чем-либо, кроме Бога, есть признак внутренней несвободы. Если от страха смерти христианину надлежит избавляться, то страх Божий, наоборот, надлежит приобретать и укреплять в себе.
В собрании Опочинина можно выделить группу легенд, в которых присутствуют образы животных. Здесь особенно четко прослеживается смешение библейских мотивов и отголосков мифов о почитаемых животных.
Мотив превращения человека в медведя находим в записанной Опочининым этиологической легенде «Откуда медведи пошли». Поймав «чудную рыбку», люди стали просить у нее «избы новые, и добра всякого — серебра, золота, одежи». Но им этого «показалось мало», тогда они «захотели царями быть и стали просить об этом рыбку». Человек, теряющий представление о данном ему при рождении положении и желающий большего, неминуемо будет наказан. Рыбка отвечает жадным людям: «Царство Богом дается. А за то, что вы этого захотели, быть вам медведями, а женам вашим — медведицами» (ед. хр. 5, л. 126–127). Данный сюжет присутствует в сказке Афанасьева «Жадная старуха», но отличается тем, что желания старухи там выполняет не чудесная рыбка, а дерево. О западноевропейском источнике этой сказки и литературной сказки А. С. Пушкина о рыбаке и рыбке писал М. К. Азадовский [Азадовский: 68].
Сходный сюжет есть в легенде, записанной Афанасьевым в Харьковской губернии. Злая жена и муж решили напугать свв. Апостолов Петра и Павла: надели на себя вывороченные шубы, притаились в укромном месте, а увидев подходящих к ним Апостолов, выскочили навстречу и заревели по-медвежьи. За это они были превращены в медведей [Афанасьев, 1914: 16]. Б. А. Успенский отмечает, что медведь в представлении русского народа относится к нечистой силе: считается, что он лешему родной брат [Успенский: 85].
В этиологических легендах животные нередко являются наряду с человеком не просто главными действующими лицами повествования, но и выступают в роли героев-антиподов: утратив чувство меры, потеряв смирение, разум, люди получают наказание, а беззащитные и терпеливые животные — Божью милость. Это показано в одной из легенд из собрания А. Н. Афанасьева: за то, что бабы прокляли рожь, которую тяжело было жать, Господь хотел оставить их без хлеба; собаки попросили у Него хоть немного хлеба для себя и получили его в награду за скромность и терпение. Согласно легенде, с тех пор человек стал собирать только худые колосья — те, которые были предназначены для собак [Афанасьев, 1914: 14].
Сходный мотив наказания и вознаграждения присутствует и в легендах Опочинина «Собачья доля хлеба» (в двух версиях) и «Собачий хлеб» (ед. хр. 5, л. 135–141). Сюжет первой легенды состоит в том, что Господь, разгневавшись на людей, погубивших верблюда, хотел лишить их хлеба, но оставил немного зерен на самой верхушке колоса ради собаки, и «люди уже с тех пор живут собачьей долей хлеба» (ед. хр. 5, л. 140). Во второй легенде наказание людям следует за то, что одна баба обтерла блином обмаравшегося ребенка: «После этого на пять лет подряд был неурожай. Людям, не то что кормить собак, — самим-то есть было нечего. Вот и взвыли с голоду собаки, жаловались Богу. Услышал Господь собачью жалобу и стал посылать немного хлеба, — только на собак. — С той поры так и пошло: все родится мало хлеба, все в нем нехватка. И мы теперь едим “собачий хлеб”, потому что не на нас, грешных, а на одних собак посылает его Господь» (ед. хр. 5, л. 141). Во всех этих легендах наказание следует за небрежное отношение людей к дарам Бога, в частности — к такой ценности, как хлеб. Вместо благодарной молитвы человек посылает проклятья за обильный урожай: «Чтоб ты пропала, окаянная рожь», «Чтоб тебе ни всходу, ни умолоту!», «Чтоб тебя, проклятую, сдернуло снизу доверху!» [Афанасьев, 1914: 14]. За неблагодарность, лень, легкомыслие, гордость, гнев, небрежно сказанное слово ему посылается Божья кара.
Большая группа легенд из собрания Опочинина посвящена семейным отношениям. В них встречается один из основных мотивов народных легенд, отмеченный Веселовским, — наказание за нарушение моральных норм, религиозных заповедей, общественного порядка. Часто в подобных легендах действуют герои-антиподы (сын–отец / мать, падчерица–род-ная дочь, две сестры или два брата), один из которых получает наказание, другой — вознаграждение. Примерами являются легенды «Про двух сестер», «Падчерица и родная дочка», «Бог даст — и в окошко подаст» (ед. хр. 5, л. 90–91, 109–114, 120–121). В последней легенде братья противопоставлены друг другу своей верой / неверием в Промысел Божий: они оба знают о зарытом кладе, но один брат торопит другого вырыть этот клад, чтобы другие их не опередили, а второй отказывается от своей доли, все время повторяя: «Бог даст — и в окошко подаст». Жаждущий наживы брат идет ночью в лес и в указанном месте находит телячью тушу вместо клада. Вернувшись в деревню, он в сердцах бросает ее в окно своему брату. При следующей встрече братьев выясняется, что в туше был зашит мешок с деньгами, которыми один брат поделился с другим. В «Сравнительном указателе…» этот сюжет можно соотнести с мотивом «предназначенного клада» (АТ 8342). [Сравнительный указатель сюжетов].
Так, в легенде «Нечестивый отец», записанной Опочининым, антиподами являются отец и сын: первый за отказ молиться был превращен в жеребца, сын же вымолил ему прощение у святого Николая. Узнал святителя герой легенды по его иконографии: «А сын глядит на него и признал его наконец: был старичок этот святой Николай Угодник, точь в точь, как видел он его в церкви на иконе». Отец получается прощение благодаря добродетелям его сына: «За твою сыновнюю любовь и набожность простит Господь твоего нечестивого отца» (ед. хр. 5, л. 89). Эта легенда близка по сюжету к легенде А. Н. Афанасьева «Грешная мать» (АТ 804), только в последней сын пытается вытащить мать из огненной реки, протягивая ей луковку. Афанасьевская легенда получила развитие в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», где ее рассказывает Алеше Грушенька. Легенда становится показателем того, что нарушенный порядок в душе Грушеньки восстанавливается, она возвращается к христианскому мировоззрению.
Легенды о святых и грешниках занимают в сказаниях, записанных Опочининым, самое значительное место. Это легенды о св. Николае, об Илье-пророке, св. Егории. О том, что Николай Чудотворец особенно любим народом, можно узнать в следующих легендах: «Про Николая Угодника и Илью-Пророка», «Как Никола Чудотворец и пророк Илья мужику пашню вспахали», «Св. Николай Чудотворец и поп» «Никола Угодник — помощник бедняка» (ед. хр. 5, л. 13–17, 18–19, 20–24, 26–27). Они повествуют о том, что св. Николай в народном сознании является заступником за крестьянина перед Ильей Пророком, пытается вразумить жадного попа и помогает бедному человеку выдать замуж дочерей, три раза одаривая его «грудой денег». Следует отметить, что легенда «Про Николая Угодника и Илью-Пророка» близка легенде из сборника Афанасьева «Илья и Никола», в которых объединяющим становится сюжет «мстительный святой» (АТ 846).
Также общим в легендах о грешниках является порицание пороков, которые проявляются при несоблюдении заповедей. Одна из них — почитание воскресного дня — распространяется на все сакральное время. Так, «беседы» (деревенские посиделки, в которых участвуют девушки и парни) не проводятся на святках, во время постов. Нарушение этого запрета приводит к тому, что беседа оказывается «запечатана» в избе на все время Рождественского поста, а раскрывается изба сама в Христову заутреню после удара колокола: «Видят: перед иконой свечка горит — все мертвые да страшные-престраш-ные» (ед. хр. 3, л. 80). Или девушки решили пошутить над братом умершей подруги, который в сороковины не ходит на беседы, и позвали его умершую сестру Олену. Придя, она «стала распутывать пряжу: вся синяя и страшная. А ее подруги после этого умерли» (ед. хр. 3, л. 70).
Причиной наказания героев легенд также может стать такой грех, как винопитие. С изображением этого порока связан сквозной мотив легенд — мотив обмана или заблуждения: «нечистый всегда подстерегает пьяного и готов затащить его в болото или трущобу» [Афанасьев, 1914: 151]. В легенде, которую приводит Афанасьев, мужик, возвращаясь с пьяной пирушки, встречает незнакомца, который ведет его к себе и угощает чаркой. Мужик, взяв чарку, «перекрестился — глядь! стоит по горло в омуте, в руках кол держит, а товарища как не бывало!» [Афанасьев, 1914: 151]. В собрании Опочинина подобный мотив встречается в легенде «Товарищ», где дом, в который попадает солдат по приглашению встреченного им «товарища», оказывается западней: «куда не пойдет — все стены». Когда же солдат очнулся, оказался перед прорубью (ед. хр. 5, л. 75).
Мотив наваждения или заблуждения обнаруживается и в повестях Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», в которых фантастическое, по замечанию Р. М. Хусаиновой, часто проявляется как неявное — через легенды, предания, а также с помощью мотивов сна («Майская ночь, или Утопленница»), слухов («Сорочинская ярмарка») [Хусаинова: 594]. Повесть «Заколдованное место» коррелирует с легендой «Товарищ»: оказавшись во власти страсти (к вину или к золоту), герой подвергается действию нечистой силы. Мотив наваждения или заблуждения объясняется духовной слепотой грешника — в этом писатель следует за народными легендами.
Сама выдумка хлебного вина, по народным преданиям, приписывается нечистым силам (АТ 817). Подтверждение этому находим у Афанасьева, который приводит рассказы татар Нижегородской губернии о том, что, приготовляя вино, черт подмешал туда сначала лисьей, потом волчьей, а потом и свиной крови: «От того если человек немного выпьет — голос бывает у него гладенький, слова масляные, так лисой на тебя и смотрит; а много выпьет — сделается у него свирепый волчий нрав; а еще больше выпьет — и как раз очутится в грязи, словно боров» [Афанасьев, 1914: 151]. Помимо этого Афанасьев подчеркивает, что в народных стихах и легендах винопитие осуждается, так как оно «потемняет человеку рассудок и вызывает его на всевозможные грехи и преступления» [Афанасьев, 1914: 149].
Осуждению в легендах из собрания Опочинина подвергается и сквернословие. Мысль об ответственности каждого за сказанное утверждается в легенде «Черное слово»: «Плохо бывает, когда, другой раз, не остережешься, выругаешься черным словом» (ед. хр. 5, л. 141), а также в легендах «Про двух проклятых девочек», «Проклятая дочка» (ед. хр. 5, л. 61–67). У Афанасьева есть похожие легенды с общим мотивом «проклятой дочери» (АТ 813А).
Среди часто встречающихся в религиозно-дидактических легендах мотивов можно выделить также и мотив обиды, затаенной злобы, которая приводит человека к преступлениям. В легенде «Удавленник» у Опочинина обида на отца приводит к самоубийству его сына Василия, который хотел убить отца за то, что тот его записал в рекруты, но, устыдившись своего злого умысла, в отчаянии повесился на рябине. Священник запретил матери поминать самоубийцу, но она завета не послушала, наварила кутью на Благовещенье, разбросала по дороге, чтобы птицы склевали ее и помянули сына. Однако птицы кутью не тронули (ед. хр. 5, л. 98–100). Таким образом, в мифологическом пространстве легенды и силы природы, и птицы, и святые угодники действуют в соответствии с неумолимой правдой воздаяния за грехи.
Отношение к самому страшному смертному греху — посягательству на свою жизнь — показано и в легенде «Как удавленник являлся своей матери»: здесь герой легенды утопил лодку хозяина и повесился, после смерти его душе нет покоя (ед. хр. 5, л. 107А–108). Душа героя отягощена еще и тем, что он уничтожил чужое имущество.
Подобные мотивы получают отражение в сюжетной линии двух героев рассказа Л. Н. Толстого «Поликушка» (1862). Крепостной Поликей, потеряв доверенные ему барыней деньги, в отчаянии повесился — с этих пор душа его не знает покоя. После совершения Поликеем смертного греха от горя теряет рассудок его жена и гибнет новорожденный сын. Когда деньги находит богатый крестьянин Дутов, ему является призрак Поликея и заставляет выкупить из рекрутчины своего племянника Илью.
В основе легенды из собрания Опочинина «Грунины деньги» лежит мотив нарушения заповеди «не укради». Хотя отец Василий просто не успел вернуть долг из-за внезапной кончины, это становится бременем для его души: он является своей супруге во сне и просит вернуть деньги Груне. В конце легенды выводится мораль: «Чужая копейка — великое дело… И что касается души, то она камнем ее тянет, и пока ты ее не отдал кому надо, — кайся, не кайся, — не будет тебе покою и на том свете» (ед. хр. 5, л. 40–44). Чужое имущество здесь показано как ценность, потерю которой необходимо восполнить.
Уход из жизни праведников и грешников показывается в легендах по-разному. Так, в одной их них в сборнике Афанасьева — «Смерть праведнаго и грешнаго» — за душой первого приходят ангелы, которую кладут на золотую тарелку и с херувимской песней несут в рай, а грешного смерть убивает молотком в голову [Афанасьев, 1914: 137–138]. Афанасьев ссылается при этом на духовные стихи, перекликающиеся с легендами, про кончину двух Лазарей — бедного и богатого: душу бедного Лазаря бережно принимают на пелену и возносят на небо, душу богатого вынимают «скрозь ребра» и ввергают в «геенский огонь» [Афанасьев, 1914: 138]. В рукописях Опочинина также встречаются записи духовных стихов про двух братьев Лазарей, сюжет которых состоит из двух эпизодов: в первом — убогий брат приходит к богатому на пир под окно и просит подаяние, в чем богатый Лазарь ему отказывает: «Какой ты мне брат! / Сроду не бывал! Вон твоя-то братья — / Борзы кобели» (ед. хр. 5, л. 5). Второй эпизод посвящен молитве братьев о смерти и тому, что посылается им Господом: бедный просит тяжелую смерть за свои грехи — и получает «скору смерть», богатый просит легкой смерти, а получает страшную кончину. Душу праведного Лазаря ангелы положили «на тонку пелену» и понесли «ко самому Христу», а душу грешного Лазаря дьяволы вынимали «на острое копие» и «понесли его душеньку, / к самой сатане». Как не услышал мольбы бедного богатый Лазарь, так «не услышал Бог / молитву богатого» (ед. хр. 5, л. 5). Эти произведения объединяет сюжет «смерть праведника и грешника» (АТ 808).
Легенды из собрания Опочинина имеют ряд особенностей, обусловленных спецификой местности, где они были записаны. Это — Рыбинский уезд Ярославской губернии, жители которой неразрывно связаны с Волгой, бурлачеством, торговлей, путешествиями, отходничеством, охотой. В местных легендах обнаруживается так называемый «волжский текст».
Отдельные легенды, записанные Опочининым, посвящены водяному и русалке, живущей в Шексне (ед. хр. 5, л. 70–71, 72–74, 128–130). В легенде «Водяной» знаком близости с нечистой силой становится движение наоборот («задом в воду зашел»). С реками связаны некоторые сны и видения героев. Так, в легенде «Вещий сон» герою снится, что на реку Черемуху «набежало народу видимо-невидимо». Оказалось, что народ действительно сбежался к реке после того, как герой утонул (ед. хр. 5, л. 92). В другой легенде три девушки отправились купаться, одна из них утонула, а другая, выбравшись на берег, рассказала, что ей привиделось, как священник в реке исповедал и причастил утонувшую, а ей отказал в причастии (ед. хр. 5, л. 39). Также в демонологических легендах Опочи-нина появляется «вольный», о котором собиратель легенд пишет: «Вольный — это создание народной фантазии, нечто вроде лесовика, лешего. Во всяком случае нечистая, не здешняя сила. 90-летний старик Василий Хамко, он же Чибес, утверждал, что “вольный” может появиться во всяком неблагословенном месте и в тех домах, где поминают нечистого. Он же водит людей, что без молитвы, не перекрестясь входят в лес (ед. хр. 3, л. 124).
В некоторых легендах из собрания Опочинина обнаруживается связь с европейскими сказаниями —«Как умершие мужья ходили к своим женам» и «Предсказательница, выходящая из реки Шексны» (ед. хр. 5, л. 45–46, 72–74). Сюжет первой легенды — посещение умершего мужа его живой женой — восходит к Старшей Эдде — к истории верной Сигрун и погибшего от рук ее родных Хельги: жена, не в силах забыть о своем умершем муже, мечтает о встрече с ним на брачном ложе (см. об этом: [Петрухин: 305–307]). О сходстве эпических жанров русского и европейского фольклора, о мотивах Старшей Эдды в литературе писали многие исследователи (см.: [Веселовский], [Топорова], [Сафрон], [Довгая], [Осьмухина], [Смирнова, Маслова, Мощанская], [Казаков], [Булавкин]), но мотив связи земного мира и загробного не исследован, хотя его можно обнаружить в балладе Г. Бюргера «Ленора» (1773), стихотворении Э. По «Линор» (1843), новелле В. Ирвинга «Жених-призрак» (1819). В народных легендах порицается то, что женщина не может примириться с утратой мужа, а также отсутствие у нее веры в Воскресение. Необходимость примирения со смертью близкого человека и вера в бессмертие его души восходит к Новому Завету, к словам Апостола Павла: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15:22). В русской литературе этот сюжет был обработан В. А. Жуковским в балладе «Людмила» (1808).
Вторая легенда также восходит к одному из эпизодов Старшей Эдды о древе Иггдрасиль с источником судьбы при корнях [Буслаев: 332]. В легенде «Предсказательница, выходящая из реки Шексны» создается образ мудрой девы, которая помогает людям — предрекает будущие потери. Во многих славянских сказках появляется «вещая дева при истоке реки» [Буслаев: 332]. По мнению Ф. И. Буслаева, в подобных легендах и сказаниях происходит «олицетворение стихийных божеств» и «духов предков» [Буслаев: 320]. Сюжет этого древнего сказания лег в основу повести немецкого романтика Ф. де ла Мотт Фуке «Ундина» (1801) и был поэтически обработан В. А. Жуковским в поэме 1836 г. с одноименным названием. Кроме того, образ девы-русалки получил отражение в стихотворении Г. Гейне «Лорелей» (1824), в драме Г. Гауптмана «Потонувший колокол» (1896). Так, А. П. Склизкова считает мифологический план драмы Гауптмана свидетельством ее принадлежности неоромантическому направлению, русалка Раутенделейн в этом произведении, по мнению исследователя, воплощает трансцендентные силы, она освобождает героя от смерти [Склизкова: 113, 117].
Основным отличием легенды, записанной Опочининым, от литературных произведений, где на первый план выходит история любви русалки и земного человека, является то, что в ней русалка — предсказательница гибели людей и судов, появляющаяся на самом опасном участке реки Шексны: «На расстоянии версты от села Вольского Погоста, в Рыбинском уезде, река Шексна делает крутой поворот и образует т. н. Черный мыс, чаще называемый в народе — “Кривая” — крутой берег мыса, в который ударяет сильное течение реки, с каждым годом отмывается и глубина здесь весьма значительна» (ед. хр. 5, л. 72). Также в легенде упоминается о реальном событии — гибели в 1894 г. парохода «Успех». Белые одежды русалки вызывают ассоциацию с традиционным цветом погребального савана: «Издавна же существует поверье, что каждому несчастью в “Кривом” предшествует появление из воды девицы в белой одежде, с неприкрытыми, распущенными волосами» и голосом, похожим на стон гагар (ед. хр. 5, л. 72). Сделав предсказание, шекснинская русалка бросается с крутого берега, уреза, в воду. Старый рыбак рассказывает о том, что у него после встречи со зловещей предсказательницей пропала «сила в руках», он грести не мог. В поединке с нечистой силой ему помогает крестное знамение.
Таким образом, легенды, собранные Е. Н. Опочининым в Рыбинском уезде Ярославской губернии, имеют сходство с легендами из сборника А. Н. Афанасьева и других собраний фольклора. Общими являются сюжеты «срок жизни людей и животных» (АТ 828), «предназначенный клад» (АТ 8342), «мстительный святой» (АТ 846), «проклятая дочь» (АТ 813А), «смерть праведника и грешника» (АТ 808). Данные сюжеты связаны с аксиологическими мотивами (простейшими ценностными ориентирами, закрепленными в образцах поведения). Сюжеты «предназначенный клад» и «смерть праведника и грешника» объединены мотивом восстановления нарушенного порядка, первый сюжет связан с мотивом веры в Промысел Божий, а сюжет «мстительный святой» предполагает заступничество святого, сюжет же «проклятая дочь» побуждает к чувству ответственности за сказанное слово.
Свойством типологической повторяемости отличаются мотивы заступничества святых угодников и добродетельных детей за грешников, что раскрывает веру в возможность их нравственного возрождения. В то же время, наказание за пьянство, сквернословие, маловерие, посягательство на чужое имущество, за непочитание сакрального времени — это варианты восстановления нарушенного порядка в мире. Утрата смирения, чувства меры, небрежение дарами Бога — это варианты мотива нарушения божественного порядка, за которым следует мотив наказания, который реализуется в таких вариантах, как превращение человека в зверя, голод, смерть.
Инвариантами для мировой литературы становятся мотивы неверия в Воскресение, наказания за нарушение иерархии в земном мире и связи вещей девы-русалки с загробным миром. В сюжетах произведений русской литературы развиваются такие фольклорные мотивы, как мотив наваждения или духовной слепоты из-за страстей, овладевающих человеком, мотив наказания за обиду на родных. Отличаются легенды из собрания Опочинина не только «волжским текстом», но и мотивом страха Божия, который заставляет человека перейти от мифологического циклического времени к христианской линейной концепции времени. Все аксиологические мотивы можно дифференцировать на мотивы нарушения божественного порядка и его восстановления. В общих мотивах русского фольклора и литературы выступают такие нравственные ценности, как молитва, почитание святых и их образов, соблюдение иерархии в семье и в обществе, труд, честность, трезвенность, милосердие и взаимопомощь, ответственность за слова и дела, вера в Промысел Божий. Эти духовно-нравственные доминанты определяют картину мира русского человека.
Список литературы Жанровое содержание народных легенд в литературной обработке Е. Н. Опочинина
- Азадовский М. К. Литература и фольклор: Очерки и этюды. -Л.: Худож. лит., 1938. -297 с.
- Азбелев С. Н. Проблемы международной систематизации преданий и легенд//Русский фольклор: Специфика фольклорных жанров. -М.; Л.: Наука, 1966. -Т. 10. -С. 176-195.
- Афанасьев А. Н. Народные русские сказки: в 8 вып. -М.: Изд. К. Солдатенков и Н. Щепкин, 1855-1863. -Вып. 1-8.
- Афанасьев А. Н. Народные русские легенды/ред. и предисл. С. К. Шамбинаго. -М.: Книгоизд-во «Современные проблемы», 1914. -316 с.
- Булавкин К. В. Древнерусский стих о Голубиной книге в контексте евразийской мифологической традиции//Вестник Московского государственного областного гуманитарного инcтитута. Серия: История, философия, политология, право. -2012. -№ 2. -С. 21-27.
- Буслаев Ф. И. Славянские сказки//Исторические очерки русской народной словесности и искусства: в 2 т. -СПб.: Типография товарищества «Общественная польза», 1861. -Т. 1. -С. 308-354.
- Веселовский А. Н. Опыты по истории развития христианской легенды//Журнал министерства народного просвещения. -1875. -Ч. 178 (№ 4. Апрель). -С. 283-331. -Ч. 179 (№ 5. Май). -С. 48-130; 1876. -Ч. 183 (№ 2. Февраль). -С. 241-288. -Ч. 184 (№ 3. Март). -С. 50-116; 1877. -Ч. 189 (№ 2. Февраль). -С. 186-252. -Ч. 191 (№ 5. Май). -С. 76-125.
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика/ред., вступ. ст. и примеч. В. М. Жирмунского. -М.: Изд-во ЛКИ, 2017. -648 с.
- Довгая Ю. В. Архетипические сюжеты в европейской литературе//Культурология. -2001. -№ 2 (18). -С. 69-77.
- Зуева Т. В. Легенда//Литературная энциклопедия терминов и понятий/гл. ред. А. Н. Николюкин. -М.: НПК «Интелвак», 2001. -С. 432-434.
- Казаков Г. М., Петров Н. В. Сюжетные функции перебранок в эпической поэзии (саги и былины)//Вестник РГГУ. Серия: История, филология, культурология, востоковедение. -2011. -№ 9 (71). -С. 84-107.
- Левинтон Г. А. Легенды и мифы//Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т./гл. ред. С. А. Токарев. -М.: Сов. энциклопедия, 1992. -Т. 2. -С. 45-47.
- Назиров Р. Г. Запрет оглядываться (к происхождению фольклорного мотива)//Фольклор народов РСФСР. Межэтнические фольклорные связи. Межвузовский научный сборник. -Уфа: Изд-во Башкирского ун-та, 1987. -С. 31-38.
- Осьмухина О. Ю. «Священная книга оборотня» В. Пелевина: мифопоэтический аспект//Литературоведение на современном этапе: теория, история литературы, творческие индивидуальности. К 130-летию со дня рождения Е. И. Замятина. По материалам международного конгресса литературоведов. -2014. -С. 399-404.
- Петрухин В. Я. Мифы древней Скандинавии. -М.: Астрель; АСТ, 2010. -464 с.
- Проблемы современного сравнительного литературоведения/под ред. Н. А. Вишневской и А. Д. Михайлова. -М.: ИМЛИ РАН, 2004. -96 с.
- Пропп В. Я. Легенда//Пропп В. Я. Поэтика фольклора. -М.: Лабиринт, 1998. -С. 125.
- Пыпин А. Н. Русские народные легенды. (По поводу издания г-на Афанасьева в Москве 1860 г.)//Народные русские легенды А. Н. Афанасьева/предисл., сост. и коммент. В. С. Кузнецовой. -Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1990. -С. 180-202.
- Сафрон Е. А. Традиции «Старшей Эдды» в скандинавской фэнтези (на материале романов Е. А. Дворецкой)//Текст, контекст, интертекст. Сб. науч. ст. по материалам Международ. науч. конф. «XIII Виноградовские чтения» (г. Москва, 15-17 октября 2013). -М.: МГПУ, 2014. -Т. III. -С. 45-52.
- Силантьев И. В. Поэтика мотива/отв. ред. Е. К. Ромодановская. -М.: Языки славянской культуры, 2004. -296 с.
- Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей: статьи и исследования о русских классиках/сост. Е. И. Покусаева; вступ. ст. Е. И. Покусаева и А. А. Жук. -М.: Худож. лит., 1972. -544 с.
- Склизкова А. П. Драма-сказка Г. Гауптмана «Потонувший колокол» как неоромантическое произведение//Вестник Пермского университета. -2016. -Вып. 2 (34). -С. 113-119.
- Смирнова Н. А., Маслова М. А., Мощанская О. Л. Художественная рецепция «Прорицания Вельвы» в творчестве Дж. Р. Р. Толкина и В. Я. Брюсова//Русско-зарубежные литературные связи. Межвуз. сб. науч. тр. -Н. Новгород: НГПУ, 2014. -Вып. VI. -С. 221-228.
- Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка/сост. Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. -Л.: Наука, 1979. -442 с.
- Топорова Т. В. О мифологизме Н. В. Гоголя: «Страшная месть» vs «Старшая Эдда»//Вопросы филологии. -2009. -№ 2. -С. 59-67.
- Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. Реликты язычества в восточно-славянском культе Николая Мирликийского. -М.: Изд-во МГУ, 1982. -248 с.
- Ухтомский А. А. Значение легендарной поэзии в древнерусской литературе и жизни//Доминанта души. -Рыбинск: Рыбинское подворье, 2000. -С. 15-36.
- Хоружий С. С. Вещь в работе . 2006 //Портал «Институт синергийной антропологии». -URL: http://synergia-isa.ru/?page_id=4301 (05.05.2018).
- Хусаинова Р. М. Типы фантастического в повестях сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя//Вестник Башкирского университета. Филология и искусствоведение. -2014. -Т. 19. -№ 2. -С. 592 -595.
- Чистов К. В. Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд). -СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. -540 с.