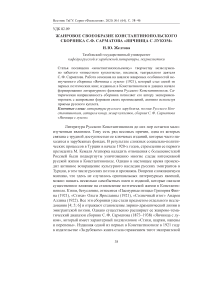Жанровое своеобразие константинопольского сборника С.Ф. Сарматова «Яичница с луком»
Автор: Желтова Наталия Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена «константинопольскому» творчеству незаслуженно забытого «известного куплетиста», писателя, театрального деятеля С.Ф. Сарматова. Работа основана на анализе жанровых особенностей неизученного сборника «Яичница с луком» (1921), который стал одной из первых поэтических книг, изданных в Константинополе и давших начало формированию литературного феномена Русского Константинополя. Сатирическая направленность сборника позволяет его автору экспериментировать с жанровыми формами своих произведений, активно используя приемы русского куплета.
Литература русского зарубежья, поэзия русского константинополя, сатира и юмор, жанр куплетов, сборник с.ф. сарматова "яичница с луком"
Короткий адрес: https://sciup.org/146281569
IDR: 146281569 | УДК: 82.09
Текст научной статьи Жанровое своеобразие константинопольского сборника С.Ф. Сарматова «Яичница с луком»
Литература Русского Константинополя до сих пор остается малоизученным явлением. Тому есть ряд весомых причин, одна из которых связана с трудной доступностью ее ключевых изданий, которые часто находятся в зарубежных фондах. В результате сложных социально-политических процессов в Турции в начале 1920-х годов, стремления ее первого президента М. Кемаля Ататюрка наладить отношения с большевистской Россией были подвергнуты уничтожению многие следы интенсивной русской жизни в Константинополе. Однако в настоящее время происходит активное возвращение культурного наследия русских эмигрантов в Турции, в том числе русских поэтов и прозаиков. Вопреки сложившемуся мнению, что здесь не случилось оригинальных литературных явлений, можно назвать несколько самобытных имен и изданий, которые оказали существенное влияние на становление поэтической жизни в Константинополе. К ним, безусловно, относятся «Пасмурные птицы» Григория Финна (1921), «Стихи» Ольги Ярославны (1921), «Солнечный итог» Андрея Аллина (1922). Все эти сборники уже стали предметом отдельного исследования [4; 5; 6] и отражают становление лирико-драматической линии в эмигрантской поэзии. Однако существенно расширяет ее жанрово-тематический диапазон сборник С. Ф. Сарматова (1873–1938) «Яичница с луком», который имеет характерный подзаголовок «Стихи, шаржи, напевы и перепевы». Изданная одной из первых в Константинополе в 1921 году в издательстве «За рубежом» книга стала отражением тягот эмигрантской жизни в сатирико-юмористическом ключе, обозначила пути формирования сатирического вектора в паоэзии русского зарубежья, однако до сих пор остается вне поля зрения современных литературоведов.
Необходимо заметить, что широкую известность Станислав Сарматов (настоящая фамилия – Опенховский) приобрел еще в дореволюционной России как театральный и эстрадный артист, писатель, режиссер, антрепренёр. Он является основателем одного из первых театров миниатюр, которые приобрели широкое распространение в эпоху Серебряного века. Сарматов стоял также у истоков «рваного» жанра в России. Вдохновленный образами горьковских ночлежников из пьесы «На дне» артист активно эксплуатировал образ «босяка», от лица которого исполнял различные куплеты. Скоро он прибрел славу «лучшего куплетиста России», как о нем писали газеты. Но в рамках своего театра миниатюр Сарматов пробовал самые разнообразные жанровые формы: им ставились пьесы, «оперы-анекдоты», «буффонады» и т. д. До революции его «модные куплеты и шансонетки», «пикантные мотивы» часто обретали печатную форму и активно издавались в Харькове, Москве, Петербурге, огромными тиражами выходили также грампластинки с их записями. Блестящий дореволюционный творческий путь Сарматова достаточно подробно освещен в статье Ю.Ю. Поляковой [7], однако в ней почти отсутствуют сведения об эмигрантском периоде его деятельности, которые до сих пор крайне скудны и нуждаются в уточнении.
Известно, что для Сарматова изгнание, как и для многих русских людей, началось в Константинополе, куда он прибыл в 1920 году. Почти сразу же артист окунулся в его бурную ночную жизнь, открыв на паях с А. Н. Вертинским ресторан, который, по одним свидетельствам, назывался «Русский трактир», по другим – «Трактир Сарматова и Вертинского». Но как совместное это коммерческое предприятие долго не просуществовало: компаньоны рассорились навсегда. Интересно, что популярность заведения была настолько велика, что ресторан Сарматова на улице Пера упоминается в рассказе А. А. Аверченко «Первый день в Константинополе» как знаковое место русской жизни, служащее отличным ориентиром для беженцев. Видимо, Аверченко и «король шантанных песен» были знакомы еще до революции. Известно, что в театре миниатюр Сарматова с успехом шла пьеса Аверченко «Телефон № такой-то» 1916 года. Кроме того, артист в 1921 году напечатал поэму «Тринадцать» в эмигрантском журнале «Зарницы», к редактированию которого непосредственное отношение имел Аверченко [8]. Возможно, его знаменитый театр-кабаре «Гнездо перелетных птиц» также во многом базировался на опыте и традициях, заложенных театром миниатюр Сарматова.
В Константинополе начала 1920-х годов также находился и другой известный поэт-сатирик, соратник Аверченко – Дон-Аминадо (А. П. Шпо- лянский), оставивший любопытные воспоминания о российской славе Сарматова, свидетелем которой он был еще в Одессе. Сарматов характеризуется как «знаменитый куплетист и любимец публики», «действительно талантливый» человек, «куда скромнее собственных поклонников»: «Появившись на эстраде в своих классических лохмотьях уличного бродяги, оборванца и пропойцы, “бывшего студента Санкт-Петербургского политехнического института, высланного на юг России, подобно Овидию Назону, за разные метаморфозы и прочие художества”, Сарматов, как громоотвод, отвёл и разрядил накопившееся в зале электричество. Немедленно исполненные им куплеты на злобу дня сопровождались рефреном, который уже на следующий день распевала вся Одесса. «Дайте мне пилота, / Жажду я полёта!.. // Восторг, топот, восхищение, рукоплескания без конца» [3, с. 51].
В 1923 году Сарматов, как и многие русские, покинул Константинополь и перебрался в США, пытался закрепиться на Бродвее, где играл эпизодические роли, в том числе весьма подходящую ему роль «хозяина русского ресторана». Однако прежнего успеха ему не удалось повторить, умер он в Нью-Йорке в весьма бедственном положении.
Представляется, что единственный из известных на сегодняшний день эмигрантских сборников Сарматова «Яичница с луком» (1921) заслуживает самого пристального внимания. Помимо очевидных художественных достоинств в нем демонстрируются оригинальные формы существования самых разных смеховых жанров. Часть из них носит ярко выраженный авторский характер, и в этой связи весьма любопытны подзаголовок книги («стихи, шаржи, напевы и перепевы») и названия ее разделов: «Стихотворения серьезные и так себе», «Анекдоты» и «Рифмы».
Необходимо отметить, что Сарматов в сборнике впервые в своем творчестве представляет «стихотворения серьезные», в которых отступает от привычного для себя «рваного» жанра и вполне отчетливо проводит линию, характерную для начала русской эмигрантской литературы: осмысление причин эмиграции и выражение тоски по Родине. Именно со стихотворений этой направленности автор начинает книгу, как бы не решаясь или не находя в себе нравственных сил писать в привычном для себя сатирическом ключе о своем изгнании, хотя специальная вклейка к книге «От автора» все же содержит некоторые нотки иронии: «Как и во всякой порядочной книге в сборнике моих стихов есть несколько досадных опечаток. Исправлять их не стоит. Все равно никогда никто на эти исправления внимания не обращает. Но одну все-таки исправим из приличия: она на первой странице, а это совсем неудобно. Итак: в первом стихотворении “Тоска”, в 3 строке, вместо слова “митра” надо читать, конечно, слово “лента”» [9]. Конечно, трудно назвать эту замену слова опечаткой, ибо очевидно замещение церковного «митра» (и более точно- го) на более нейтральное – «лента». Тем самым автор сборника как бы совершает первый пуант в книге, отказываясь от прямого этического содержания. Именно так выглядит четверостишие в оригинале (здесь и далее произведения Сарматова цитируются согласно нормам современной русской орфографии с сохранением некоторых особенностей авторской пунктуации): «По спящим улицам до утренней зари / Витаю по ночам один я на моторе. / Мелькают предо мной, как митра, фонари / Дворцы, и хижины, и лаковое море» [Там же, с. 3].
Здесь отчетливо Сарматовым обозначаются хронотоп ночного Константинополя и типичное душевное состояние русского эмигранта – тоски, от которой «не убежать», «не скрыться» и которая давно неотступно следует за лирическим героем. Следующее стихотворение «На чужбине» отражает массовое настроение беженцев из России, оказавшихся в ситуации, когда «нет просвета впереди», «нет огней от маяка», когда человек на чужбине задыхается от несвободы и чувствует себя несчастным рабом, сбившимся с пути под влиянием злого рока: «Я не свободен, чем-то связан, / У всех заискивать обязан, / И от улыбок без конца / Устали мускулы лица» [Там же, с. 4].
В стихотворении «Земля и воля» присутствует попытка осмысления трагедии русского крестьянства, его жертв, принесенных на алтарь революции и Гражданской войны, причем используется прием куплета – пуант, который показывает резкий разрыв между ожиданием и реальностью: «Всю жизнь прикованный к земле, / Трудясь до ужаса, до боли, / С холодным потом на челе / Он всё молил: “земли и воли”. // В мундир солдатский наряжен, / Насильем сильных, поневоле, / Он братской пулей был сражен / И получил “земли и воли”» [Там же, с. 5].
Пожалуй, только эти три стихотворения можно отнести по авторской классификации к «серьезным». Темы тоски, смерти, несвободы, беженской доли развиваются и в других произведениях первой части книги, но в них уже привносится доля иронии, осуществляется попытка посмеяться, хоть и горько, над собственным «сплином», поэтому их возможно рассматривать в особой, авторской жанровой категории «серьезные так себе». Например, в стихотворении «Осенние мелодии» после описательной части в последних строках произведения Сарматов не может удержаться от того же куплетного «кувырка», ориентированного на восприятие читателем комического противоречия: «На небе серые волокна. / Бушует ветер средь долин, / Осенний дождь стучится в окна. / И нагоняет в душу сплин. / Свихнувши челюсти в зевоте, / Не знаешь сам на что решиться: / Взять пистолет и застрелиться, / Или поехать в гости к тете» [Там же, с. 11].
Интересна общая композиция сборника, который начинается на вполне серьезной, даже трагической ноте, затем напряжение, заданное в начале книги, постепенно разряжается произведениями-романсами, потом разделом легких фривольных анекдотов, и в последних «Рифмах» автор уже дает своеобразный мастер-класс молодым поэтам и возвращается тем самым к привычному для себя жанру куплетов.
Романсы Сарматова вполне отвечают традиционному о них представлению. Это лирические произведения, в основе которых лежит некое событие, оставившее глубокий след в душе героя. Они пронизаны сентиментальным пафосом, претендуют на изысканность, высоту чувств и переживаний. Например, романс «Глазки», посвященный О. де Бове, продолжает модную в начале ХХ века тему «очаровательных глазок». Интересно заметить, что О. де Бове – это не дама сердца поэта, а капельмейстер «Нового театра Омона» (другие названия: «Декаданс», «Буфф), в спектаклях которого в 1902 году играл Сарматов. О. де Бове был также известным композитором, автором многочисленных популярных романсов, например, неоднократно переиздававшегося «Я не скажу тебе» (1901) [1]. Кроме того, популярен был также романс «Я не знаю, зачем всюду взор твой ловлю» (1910) [2]. Видимо, именно с этим произведением ведет диалог Сарматов с очевидной долей иронии и пародии: «Зачем я встретил эти милые глазки. / Зачем так безумно я их полюбил. / Зачем испытал бездну счастья и ласки. / Зачем свое сердце навеки разбил» [9, с. 8].
Интересно заметить, что О. де Бове участвовал в пародиях Сармато-ва, в том числе в качестве аранжировщика. Известна их пародия на народную песню «Ухарь-купец» [10]. Романсный характер в «Яичнице с луком» носят также «Зацелуй ты меня…», «Девушка светлая», «Никогда». Видимо, эти стихотворения интимного характера по авторской классификации в полной мере можно называть «напевами». Они становятся своеобразным мостиком, соединяющем романсный стих с куплетными строфами сборника. В них герои лишены какой-либо индивидуализации, являются в той или иной степени носителями пороков, которые разбивают их собственную жизнь или жизнь близких им людей. Персонажи принадлежат к разным социальным слоям, но чрезвычайно схожи по своим низким нравственным качествам. Непосредственно в самих куплетах Сарматов уже прибегает к популярному в конце XIX – начале ХХ века обобщению своих героев в духе «она», «NN», которые указывают на их аморальный облик:
Она
Мадам NN – известная актриса, – Кокаинистка, пьяница, развратная жена, Противна так, как жаба или крыса, Покуда не намажется румянами она.
Когда ж намажется, я говорю меж нами, Лицо еще противнее становится у ней, – Так труп, обставленный душистыми цветами, Смердит еще ужасней и тошней [9, с. 17].
В куплетных произведениях сборника Сарматов активно прибегает к просторечной лексике, словно ориентируясь на запросы зрителя из кафешантана, где между артистом и слушателями почти нет дистанции, они существуют как бы на равных. Поэтому субъект речи в оценке качеств и поступков своих героев не возвышается над читателями, ему чужда роль моралиста, для аргументации своей позиции он прибегает к многочисленным примерам-казусам из бытовой жизни. Например, в «Некультурном человеке» рассказчик уверен, что найдет понимание и поддержку у публики, почти отстраненно констатирует: «Был человек он очень странный, / Жене своей не изменял, / Сидел он дома постоянно / И книжки умные читал / Не признавал совсем куренья, / Не знал, что значит опьяненье / И в этом деле часто он / Был положительно смешон» [Там же, с. 20].
Рассказчик куплетов не стремится дать однозначную оценку своим героям, он лишь показывает следствия их поступков, то, как наказывает пороки, и смеется над людьми сама жизнь: «И так он прожил целый век, / А после умер бедный малый, / И все сказали: “от отсталый! / Вот некультурный человек!”» [Там же, с. 21].
Весьма любопытно заметить, что собственное развлекательное заведение Сарматова в сборнике подвергается неожиданному осмеянию и его описание окрашено в сатирические тона. В куплетах, которые так и называются: «Кафе на Пера. В Константинополе 1920 г.», – уже в строфе-«-заходе» демонстрируются карнавальные перевернутые оппозиции: «В пять часов “файф о клок” начинается: / Все приезжие робки, как кролики, / Им в проходах стоять запрещается / И потому, – вопли о столике. / – Россиянки с особым умением / Разукрасив лицо свое фресками, / С очень явным следят вожделением / За турецкими алыми фесками» [Там же, с. 54].
И далее рассказчик с упоением описывает в подробностях приезжих: «лысых шулеров» с «чересчур благородными лицами», флиртующих актрис, фокстротчиц-«наводчиц», «шансонеток со своими альфонсами», крупье, «сытых от профессии» спекулянтов, подрядчиков с «гордыми взглядами». Каждый из этих аморальных характеров показан как некая новая серия, новый сюжет, новая грань грубой изнанки константинопольской жизни, над которой спешит безжалостно посмеяться Сарматов. С одной стороны, в кафе собираются случайные посетители и внешне солидные люди, с другой – это худшие константинопольские типы, индивидуализация которых рассказчику неважна, поскольку их моральный облик в целом неизменен. В последней строфе куплетов используется характерное безличное обобщение: «Все шумит, бурлит, развлекается, / Тратит лиры, по нашему – рублики. / Все здесь есть, все кому полагается, / Только нету – порядочной публики» [Там же].
Литературный куплет по четкости внутренней структуры, краткости характеристик и описаний, лаконичности сюжета, неожиданности разрешения ситуации, осмеянию различных социальных пороков близок анекдоту. В этой связи появление в стихотворном сборнике Сарматова раздела «Анекдоты» неслучайно. Завершающая реплика анекдота, которая вступает в противоречие с основным текстом, как бы переворачивая весь его смысл, напоминает пуанты, кувырки в куплете. В анекдотах Сар-матова грань между эстетическим, общественно приемлемым и неэстетическим, скабрезным становится весьма тонкой. Репрезентативным в этой связи является анекдотный диалог «Бырынька и генерал»:
Бабенка сдобная, усевшись раз укромно,
Спросила старого, седого генерала:
– «Скажите, генерал, хоть это и не скромно,
Которая весна вам ныне миновала?»
– «Мне восемьдесят пять, вся жизнь – моя прошла,
Как сон!..» – «Да что вы, неужели?
Ну, знаете, я вам, ей Богу, не дала б…»
– «Да я и не прошу… На что мне в самом деле!» [Там же, с. 63].
В разделе «Рифмы» Сарматов вновь возвращается к жанровым особенностям литературного куплета, для которого характерно своеобразное жонглирование, щегольство рифмами. Читатель в этом случае имеет возможность включиться в своеобразную языковую игру, угадывая или не угадывая рифму, что отражает диалогическую сущность куплетного жанра. Наиболее ярко рифменное мастерство Сарматова проявилось в «Руководстве для молодых поэтов», имеющем характерный подзаголовок «Рифмы». «Руководство…» включает 45 разнообразных стихотворных форм: от двустиший до восьмистиший. В них именно рифма становится ведущим приемом в создании комического эффекта, предметом смеха: «Стал он волосы ерошить – / У него украли лошадь» [Там же]. Или: « На ветвях сидели дрофы, / Распевали дружно строфы. / И не ждали катастрофы. / Вдруг раздался где-то выстрел, / Полетела масса ввысь стрел, / И одним кусочком олова / Просверлило птичке голову» [Там же, с. 92].
«Рифмы» Сарматова, очевидно, восходят к традициям русского раешного стиха, содержат черты русского народного юмора, балагурства, в которых яркие окончания в строфах создают дополнительный комический эффект. Кроме того, Сарматов в книге прибегает также к жанру литературных шаржей, создавая любопытные пародии на современные ему явления в искусстве (например, «Футуристическое», «Сентенции о любви», «Поэза a la Северянин»).
Таким образом, в эмигрантском сборнике Сарматова «Яичница с луком» представлено впечатляющее многообразие жанров: от «серьезных» лирических стихотворений до разнообразных смеховых форм, основу которых составляет литературный куплет. Представляется, что использование куплетных приемов позволяет поэту критически осмыслить эмигрантскую действительность, показать ее неприглядную изнанку, сде- лать предметом смеха и таким образом способствовать преодолению нравственного кризиса русской жизни в Константинополе начала 1920-х годов.
Об авторе:
Список литературы Жанровое своеобразие константинопольского сборника С.Ф. Сарматова «Яичница с луком»
- Белов Н., де Бове О. Я не скажу тебе: Романс. М.: Издание А. Гутхейль, 1905. 3 с.
- Гофштеттер В., де Бове О. Я не знаю, зачем всюду взор твой ловлю. М.: Издатель Юлий Генрих Циммерман, 1910. 3 с.
- Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. М.: Книга, 1991. 336 с.
- Желтова Н. Ю. Ольга Ярославна. Избранные стихи // Филологическая регионалистика. 2017. Т. 9. № 2 (22). С. 48-52.
- Желтова Н.Ю. Григорий Финн. Пасмурные птицы. Стихи 1918-1920 годов// Филологическая регионалистика. 2018. Т. 10. № 1-2 (25-26). С. 54-60.
- Желтова Н.Ю., Дзайкос Э.Н. "Царьградские фрески": стихи константинопольского поэта Андрея Аллина // Современные проблемы филологии: сб. материалов VII Междунар. научно-практ. конф. Тамбов: Межрегиональный центр инновац. технологий, 2019. С. 11-16.
- Полякова Ю. Ю. Театр миниатюр С.Ф. Сарматова (С. Опенховскош) // Харйв i Полыца: люди i поди: Матершш М1жнародно1 наук.-практ. конф. Харйв: Майдан, 2006. С. 79-92.
- Сарматов С. Ф. Тринадцать: Поэма // Зарницы. 1921. 31 июля. С. 20-22.
- Сарматов С.Ф. Яичница с луком: Стихи, шаржи, напевы и перепевы. Константинополь: За рубежом, 1921. 93 с.
- Ухарь-купец: "С ярмарки ехал купеческий сын.".: (пародия) / Аранж. О. де Бове; сл. С.Ф. Сарматова. М.: Ф. Детлаф и К°, [1911]. 3 с.