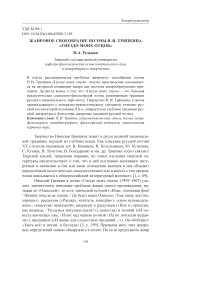Жанровое своеобразие поэмы Н.И. Тряпкина "Гнездо моих отцов"
Автор: Редькин Валерий Александрович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема жанрового своеобразия поэмы Н. И. Тряпкина «Гнездо моих отцов». Анализ произведения основывается на авторской концепции жанра как системы жанрообразующих признаков. Делается вывод о том, что «Гнездо моих отцов» - это большая реалистическая социально-философская поэма, развивающая традиции русского национального лиро-эпоса. Творчество Н. И. Тряпкина, в целом принадлежащего к конкретно-реалистическому стилевому течению русской поэзии второй половины XX в., опирается на глубокие традиции русской литературы и фольклора, жанровые традиции русской поэмы.
Н.и. тряпкин, современная поэзия, стиль, поэма, жанр, фольклоризм, автобиографизм, философский подтекст, национальная картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/146281696
IDR: 146281696 | УДК: 82.09-1 | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.3.105
Текст научной статьи Жанровое своеобразие поэмы Н.И. Тряпкина "Гнездо моих отцов"
Творчество Николая Тряпкина лежит в русле великой национальной традиции, идущей из глубины веков. Как классика русской поэзии ХХ столетия оценивали его В. Кожинов, В. Котельников, Ю. Кузнецов, С. Куняев, В. Личутин, В. Бондаренко и мн. др. Тряпкин тесно связан с Тверской землей, тверскими корнями, но «опыт изучения тверской литературы свидетельствует о том, что в ней постоянно возникают интересные и значимые в том или ином отношении явления и она обладает определённой целостностью, самодостаточностью и вместе с тем органически вписывается в общероссийский литературный контекст» [1, с. 69].
Николай Тряпкин в поэме «Гнездо моих отцов» (1959–1967) уделяет значительное внимание проблеме жанра своего произведения, называя её «Одиссеей», то есть эпической поэмой («Итак, эпическая фея! / Начнём покуда не спеша. / Да будет наша Одиссея, / Как наше детство, хороша»), рассказом («Рассказ, читатель, поведём»), «сном исповедальным», «повестью печальной», виденьем и раздумьем («Иль то проходят, как виденья, / Раздумья матушки-земли?»), повестью и поэмой («И повесть кончилась уже. / И вот над нашею поэмой / На юг поплыли журавли»), преданием («И вновь для сладостных преданий…»). Он обобщает: «Здесь всё: и песни, и баллада» [5, с. 199]. Признаки всех этих жанровых определений можно обнаружить в поэме. Но если представить жанр произведения как систему жанрообразующих признаков, то прежде всего следует сказать, что «Гнездо моих отцов» – это реалистическое лиро-эпическое произведение (хотя «в поэзии Тряпкина проявляются и романтические тенденции» [4, с. 261]).
Тряпкин воссоздаёт историю жизни родной деревни, характеризует множество образов односельчан и близких родственников. Поэт уделяет внимание крестьянскому быту, убогому наследию дореволюционных времен и вполне цивилизованному советскому времени: «В передней зале много света, / Зелёный фикус, белый тюль, / На полке – стопкою газеты, / (Хозяин, мол, с политпросветом, / А не какой-нибудь куркуль)» [5, с. 216].
Автор воссоздает картины крестьянского труда односельчан, и не только сельского. Не покладая рук работают женщины: «На кухне – мать за ткацкой снастью / Стучит, готовит полотно. / В руке у бабушки Настасьи / Жужжит, поёт веретено». И мужики не только пахари, но и мастеровые. Русский мужик труженик, как в поле, так и в ремесле: «И вот пошла, пошла работа / По целым дням, по всем ночам. / Во все рубанки и долота». Мастеровыми рисуются даже дети: «Угольник – в руки, гвозди – в кепку, / Зажим и пресс – на полный строй. / И стонут брусья под шерхебкой, / Визжит тесина под пилой» [Там же, с. 223].
И хотя извиняется поэт за свой православный календарь, не может он, оставаясь верным правде жизни, не вспомнить народные праздники, связанные с христианской традицией, по-своему преломленной народной стихией. Это можно воспринимать как поэтизацию своеобразной соборности. Так описывается празднование Егорьева дня [Там же, с. 224]. Тем не менее в поэме речь идёт о советском времени, и поэт не может умолчать о влиянии атеистической пропаганды.
На первый взгляд, пафос поэмы утверждающий. Автор поэтизирует малую родину, отчий дом в деревне Саблино, Тверскую землю. «Итак, читатель, мы у края / Той старины, что помню я. / Привет, земля моя тверская, / Деревня Саблино моя!» Поэт обращается к истории возникновения родной деревни.
Этот национальный мир в своей основе казался поэту «вечным и незыблемым, как космос, как вселенная» [3, с. 63]: «И вечный ветер мирозданья / Над нашей улицей плывёт». Поэт обращается к своим истокам, ко времени своего детства. Это поэма памяти: «За грустным шорохом осоки / Звенят речные бубенцы… / Меня зовут мои истоки». Поэт с теплотой вспоминает своих предков.
Лирический герой максимально близок реальному автору, ибо поэма автобиографична, он помнит рассказы прадеда Семена о Крымской войне и отношении к крестьянам помещика при крепостном праве. Жизнь пращура стала основой личности поэта, основой его внутреннего мира на генетическом уровне. Прадед Семён «прожил сто четыре года – /
Глаза дедов, создатель рода, / Чьей жизнью смутно я живу». Прозвище Семёна и стало фамилией Николая Тряпкина: «Семён ходил к Москве и Твери / С возами всякого тряпья. / И с этих пор в мирские двери / Пошла фамилия моя…» [5, с. 203].
Лиризм поэме придают воспоминания о детстве, друзьях и забавах того времени, восприятие окружающего мира глазами ребенка. Автор поэтизирует среднерусскую природу, темы природы и детства сплетаются воедино. Поэт не может забыть «закаты в медленном сгоранье, / колосья в тихом созреванье, / густой орешник за двором» и пролетающих «милых журавлей». При этом его сердечная глубокая любовь распространяется на всю серединную Русь, на бесконечно дорогую для него большую родину – великую Россию: «Люблю ржаную, полевую / Россию средней полосы». Тряпкин – поэт-державник. Родная страна для него высшая ценность: «Уходит всё – и жизнь, и слава, / Как сын от отчего крыльца. / И только ты, моя Держава, / Стоишь – и нет тебе конца» [Там же, с. 228]. Поэт выражает чувство благодарности родной земле. Отсюда рождается чувство долга и возникает публицистический пафос: «И жизнь прикажет: “Будь подвижник. Забудь про все – ты сын страны”» [Там же, с. 219].
И хотя поэт заявляет: «Я – лирик скромный у калитки, / А не эпический планёр» [Там же, с. 199], всё-таки в поэме доминирует не воспевающее начало, а пафос социально-философский. В произведении заключен мощный эпический пласт, связанный с национально-историческим конфликтом эпохи. Пафос приобретает драматический, если не трагический, характер. Это связано со стремлением к личной зажиточной жизни, к богатству одной части крестьянства и с инертностью, непротивлением утопическим мечтаниям – другой.
Перед глазами читателя проходит жизнь деревни серединной Руси на протяжении всего ХХ века. Судьба русской деревни и является сюжетом произведения. Социальные проблемы решаются во вселенском, даже космическом масштабе. Этот масштаб передается в образах символически, через концепты вечности, неба, космоса: «И вот держу цветок лазурный / Пред ликом Вечности самой» [Там же, с. 230]. Все это делает поэму не бытописательной, а философской, в ней присутствует «глубокий философский подтекст, как и в творчестве Тряпкина в целом» [2, с. 81].
Главный вопрос, на который пытается ответить автор, таков: «Что привело к утрате родового гнезда, где жили и который обустраивали прежние поколения?»
Сквозным в поэме является мотив утраты отчего гнезда, чего не могли себе представить русские крестьяне даже в страшном сне. Гибель родового гнезда вначале рисуется символически. Ветер разрушает старую избенку:
И вдруг, взыгравши за углом, Как пьяный дылда, – хвать в охапку! Схватил всё сразу, целиком – Трубу, и сени, и закутки – И заплясал, затормошил, Гнилую крышу взбучил, взрыл, Избёнку дёрнул, пхнул под грудки И к боку новому скосил.
Избе вот-вот грозила крышка [5, с. 201].
Начало разрушительных тенденций – это тридцатый год и, конечно, страшные годы войны. Но причины гибели родного гнезда поэт видит не во внешних силах, коллективизации или фашистском нашествии. Они гораздо глубже. Размышляя о причинах гибели родового гнезда, поэт выдвигает несколько предположений. Одно из них – скаредность крестьянина-собственника: «Мужичья собственность… Не это ль / Село моё! Гнездо родное! / Ты в прах распалось, расползлось… / Когда братья сходились к бою – / Не там ли это началось?» [Там же, с. 204].
Поэт не идеализирует национальный характер, показывая, что в гибели родового гнезда виноваты не оторванные от народа власти, не темные русофобские силы, не внешняя агрессия фашистов, а эгоистические устремления самих крестьян. Борьба между собой самых близких, родных людей за кровное, своё рисуется как стихия, разрушающая веками сложившийся быт и души людей: «Из бычьих жил – ползла и пёрла / Мужичья собственность сама» [Там же, с. 204].
Крестьяне, как муравьи, строили свои дома и укрепляли своё хозяйство. Их поэт называет мурашами. Крестьянин-собственник, крестьянин-труженик с настороженностью относится ко всему, что ему несет новое время. От навязанных силой коммун и колхозов крестьяне идут «за счастьем в город‚ / Избрав позлачнее места».
Колхозы оказались Троей. Их ругали и поносили, но там было много светлого и многообещающего. Среди крестьян были и подвижники «новой жизни». В схватке «единоличной дрожжи» и приверженцев новой жизни первая победила. Злая сила, разрушающая душу крестьянина, исходила и от чинуш местной власти. Не это ли подточило приверженность крестьянина родной деревне? «Какой червяк, с какого плёва / Забрался в душу «мураша»?» – задает автор сакраментальный вопрос.
Жанр поэмы Тряпкина восходит к традициям Пушкина, Некрасова и Твардовского. Так, Твардовский в своих поэмах постоянно помнит, для кого он пишет, к кому обращается, а подчас и советуется со своим читателем. Это характерно и для Тряпкина. Читатель без труда обнаруживает в поэме аллюзии и реминисценщии, связанные с «Евгением Онегиным» и поэмами А.С. Пушкина:
Читатель, знаю, улыбнётся
И с хитрецой прищурит глаз:
«Уж нам не Пушкину ль придётся
Платить построчные в сей раз?
Читатель-друг! Оно – пожалуй.
И сам я вижу: да, грешон,
И чуть смешон твой добрый малый
В стихах на пушкинский фасон [Там же, с. 226].
Клятва друзей в поэме Тряпкина напоминает клятву друзей в поэме Твардовского «По праву памяти».
Поэт обращается, конечно же, и к фольклорным жанровым традициям. На основе народной фразеологии он разворачивает живой образ: «Своя рубашка одолела, / Своя рубашка, свой домок. / И так всё к телу припотело, / Что оторвать уже не мог» [Там же, с. 203].
Таким образом, поэма Николая Тряпкина «Гнездо моих отцов» – большая реалистическая социально-философская поэма, развивающая традиции русского национального лиро-эпоса.
Список литературы Жанровое своеобразие поэмы Н.И. Тряпкина "Гнездо моих отцов"
- Николаева С.Ю. Новые тенденции в поэтическом творчестве Николая Капитанова и Владимира Львова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 1. С. 69-79.
- Николаева С.Ю. Художественная философия Н.И. Тряпкина и Ю.П. Кузнецова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2010. № 5. С. 71-81.
- Редькин В.А. Национальный мир в поэзии Николая Тряпкина // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2011. № 3. С. 54-63.
- Редькин В.А. Романтические тенденции в поэзии Николая Тряпкина // Мир романтизма. Том 19 (43) / Тверской гос. ун-т. Тверь, 2018. С. 261-268.
- Тряпкин Н.И. Звёздное время: избранные стихотворения. М.: Литературная Россия, 2018. 383 с.