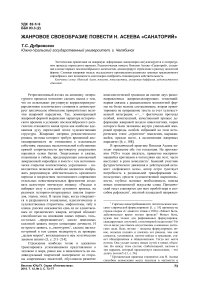Жанровое своеобразие повести Н. Асеева «Санаторий»
Автор: Дубровских Татьяна Сергеевна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Зеленые страницы
Статья в выпуске: 3 т.12, 2015 года.
Бесплатный доступ
Эстетическая ориентация на жанровую деформацию закономерно актуализируется в литературном процессе переходного времени. Реалистическая повесть Николая Асеева «Санаторий», созданная в конце первого послеоктябрьского десятилетия, демонстрирует стремление к распаду целостной формы. Сложная жанровая модель исследуемого произведения раздвигает границы традиционного мирообраза и дает возможность многомерно изобразить становящуюся действительность.
Николай асеев, повесть, новеллистика, жанровая диффузия, художественное единство
Короткий адрес: https://sciup.org/147153973
IDR: 147153973 | УДК: 82-1/-9
Текст научной статьи Жанровое своеобразие повести Н. Асеева «Санаторий»
Ретроспективный взгляд на динамику литературного процесса позволяет сделать вывод о том, что он испытывает регулярную корректировкуие-рархиитипов эстетического сознания и демонстрирует циклическое обновление приоритетных величин жанровой парадигмы. Так, доминирующей жанровой формой выражения характера исторического времени в условиях послеоктябрьского десятилетия становится малая проза как наиболее адекватная духу переходной эпохи художественная структура. Жанровая матрица реалистического романа, поэтика которого требует временной дис-танцированности по отношению к излагаемым событиям, оказалась несостоятельной в обстановке прямой сопричастности круговороту разрушения коренных основ бытия. Энергоемкая и сжатая, подвижная и гибкая, продуцирующая самоценный завершенный мирообраз и вместе с тем метонимически открытая контекстовому укрупнению – новеллистика позволяла наиболее адекватно изображать разрозненную действительность кризисного периода и посредством экстенсивного сопряжения отдельных повествовательных фрагментов создавать целостную эпическую мозаику. «Рассказ и набирает силу в ситуации духовного кризиса, на разломах историко-литературных циклов (периодов, этапов, эпох). В такую пору, когда отвергаются и разрушаются социальные, идеологические и художественные стереотипы, мифологемы, табу и клише, рассказ оказывается едва ли не единственным из прозаических жанров, который обладает способностью на основании самых первых, только-только „прорезавшихся“, доселе неведомых коллизий заявить новую концепцию личности. И не просто заявить, а „оконтурить“, сделать наглядно-зримой и тем самым подвергнуть ее проверке „целым миром“, воплощенным в нем эстетическим законом жизни» [3, с. 213–214].
Стремление наиболее точно и адекватно транслировать усложнившиеся представления о человеке и мире, равно как и нацеленность на индивидуальный творческий эксперимент со стороны современных писателей, обусловили развитие новеллистической традиции на основе двух разнонаправленных жанромоделирующих тенденций: первая связана с расщеплением монолитной формы на более мелкие составляющие, вторая ориентирована на приращение текста за счет художественной интеграции. «<…> фактически протекал особый, комплексный, качественный процесс деформации жанровой модели новеллистики, корни которого были заложены внутри уникальной жанровой природы, особой, избранной на этом историческом этапе „стратегии“ поведения, выражавшейся, прежде всего, в ассимиляции жанровых парадигм» [6, с. 188].
В прозаической практике Николая Асеева находят отражение обе эти тенденции. На протяжении 1920-х годов писатель, привычно воспринимавшийся критиками и читателями как поэт, часто выступает в роли новеллиста1. Бывший участник футуристического движения и действующий активист «лефовского цеха», автор остро чувствует потребность в радикальной трансформации используемых средств художественной выразительности, глубоко осознает необходимость поиска новых возможностей искусства слова. Прозаический текст становится для него пробой пера и способом рефлексии2, опытной площадкой напряжен- ных эстетических исканий новатора и неприкрытых утилитарных воззваний агитатора, безграничным пространством свободного полета творческого воображения и рабочим станком для фактографических зарисовок позитивистского толка.
Неоднородные в жанрово-стилевом отношении произведения автора прежде всего роднит мотив изменения как непреложного закона жизни и, следовательно, пафос непримиримой борьбы с приметами действительности, не соответствующими идеалу будущего на повседневном и онтологическом уровнях. Идейно-концептуальная общность созданных и опубликованных в разные годы «очерков, рассказов, повестей» [1, с. 713], так или иначе затрагивающих октябрьские события, позволяет автору собрать и выпустить во второй половине пореволюционного десятилетия две новеллистические книги – «Расстрелянная Земля. Фантастические рассказы» (1925) и «Проза поэта» (1930). Настойчивое обращение к метатекстовой конструкции циклической природы как к приему достижения эпического размаха крупной формы явно свидетельствует о писательской интенции упорядочить хаос всеохватного передела, найти внутреннюю логику в условиях масштабного смещения ценностных ориентиров. Ансамблевое единство позволяет до бесконечности играть на ассоциативности, вариативности, созвучности, отношениях сопоставления и противопоставления. «Благодаря эффекту многогранного отражения одного произведения в других (принцип зеркала зеркал) получается показательное нарастание смыслов и значений, которое, в конце концов, будет далеко выходить за границы языкового выражения» [2, с. 12]. Художественный потенциал поли-компонентных структур, опирающийся на принцип дополнительности, позволяет автору объемно и выразительно репрезентировать систему отношений личности и мира новой формации в диалектической сложности переломной эпохи3.
Повесть «Санаторий», датированная 25 июня 1929 года – 5 марта 1930 года, представляет обратную циклизации тенденцию расподобления эпической формы на базе во многом идентичной поэтики. Исследуемое произведение дробится на 16 глав, составляющих текстовое пространство так называемого среднего объема при очевидном нивелировании сквозной фабулы. Структурными скрепами разворачиваемого повествования выступают концептуально-тематическая близость, общая пространственно-временная организация, единый круг персонажей, тождественная интона- ционно-эмоциональная тональность. Вместе с тем нелинейная последовательность описываемых событий, прерывисто-пунктирная сюжетная композиция, монтажная компоновка автономных эпизодов, резкая смена нарративных регистров задают хрупкий баланс центробежных и центростремительных эстетических сил.
Важно подчеркнуть, что повесть как конструкция «промежуточного характера», пограничная в ряду малых и крупных жанров, служит благодатной почвой для синтетических новаций на стыке средних и малых или средних и крупных форм. Более того, отделить «наиболее свободный и наименее ответственный эпический жанр»4 [8, стб. 603] от «типологических родственников» по количественным или качественным показателям оказывается нередко задачей непосильной. Рассматривая литературную ситуацию 1920-х годов в контексте новеллистической динамики, Е.В. Пономарева приходит к выводу, что в ряде случаев правомерно говорить о действии процессов жанровой унификации (в частности, ассимиляции рассказа в повести). По наблюдениям исследователя, для синкретических образований такого рода характерны следующие черты: «интенсивно-экстенсивный способ создания конфликта, отбора событий, героев, организации художественного пространства и времени», «более значительная степень обобщенности», «усложнение композиции», «сохранение „сосредоточенности“ авторского и читательского внимания», «наличие единого повествователя», «допуск любых эмоциональных и дискурсивных „перебивок“»; «сочетание камерности интонации и эпической широты изображения»; «циклически повторяющийся сюжет»; «более объемный хронотоп»; «связность мотивов»; «расширение возможностей ассоциативного фона»; «сегментирование текста» [6, с. 196].
В контексте прозаического наследия Николая Асеева сложная макроформа выполняет функцию более высокой ступени эстетического позна-ния,некоей «конечной» структурной модели, разомкнутой для подведения философских итогови обнажения системных связей. «Повести <…> присуще серьезное отношение к судьбе героя и к жизни в целом. Циклический сюжет вообще говорит о законе и норме, которые могут проявляться и через случай» [9, с. 393]. Примечательно, что авторский интерес к художественным возможностям среднего эпоса проявляется и в новеллистической книге «Проза поэта», название одной из последних частей которой – «Две главы повести» – включает рассматриваемую жанровую номинацию и обозначает характерную собирательную архитектонику. В качестве исследовательского допущения примем к сведению, что изобразительный потенциал литературной повести мог привлекать Асеева, блестящего знатока фольклорной традиции, в том числе и благодаря генетическому тяготению конструкции к безыскусственному слову, изначальной направленности повествовательного вектора на жизненную достоверность5. Как известно, идеологически ангажированные творческие движения пореволюционных лет постулировали стратегию правдивого описания социалистической действительности «в противоположность работе фантазии, выдумки, воображения» [1, с. 668]. При всей неоднозначности отношения писателя к пролеткультовскому утилитаризму и плакатной дидактично-сти «Санаторий», бесспорно, отвечает приемам реалистического воспроизведения созидательного труда и портретного описания ударников производства [5, с. 169–170].
Повесть знакомит читателя с буднями московского санатория для больных туберкулезом «Высокие горы». Избранная микросреда стала далеко не случайным объектом художественного претворения. 1920-е годы вошли в историю молодого государства как период успешного внедрения советским правительством мер лечения и профилактики распространенного заболевания на фоне практического бездействия дореволюционных властей. Нельзя не добавить, что Николай Асеев имел со смертельным недугом личные счеты. Очередной рецидив легочной болезни и временная нетрудоспособность стали для автора поводом к репортажному изображению самоотверженной работы одного из образцовых медучреждений страны (внешняя – бытовая – линия содержания) и рассуждению о судьбе человека и общества на перекрестке старого и нового миров (внутренний – мировоззренческий – смысловой стержень).
«Санаторий» наследует центральную проблематику новеллистики писателя. Наиболее важным интегрирующим фактором, кумулятивно сцеп- ляющим главы повествования в единое полотно, служит сквозной мотив «горячей ненависти к былому» [1, с. 202]. С первых страниц автор вводит в произведение модальность бескомпромиссного противостояния прошлого и будущего, двух аксиологических полюсов своей этико-эстетической системы. Начальные части – «У лекарки» и «Дом Джилярди»6– отчетливо маркируют узловую коллизию на уровне топоса. Тесная квартира сребролюбивой провинциальной знахарки, обставленная в громоздком патриархальном стиле, недвусмысленно символизирует косный уклад истекшей жизни. «Посетителю уже хотелось скорей уйти из этой затхлой комнатушки, из этого запаутиненно-го угла, где жирела эта дебелая лекарка, уцелевшая до наших дней шарлатанка средневековья» [1, с. 139]. Превращенная в лечебницу купеческая усадьба, напротив, демонстрирует органическую способность к ускоренной модернизации. «В общем же, обстановка старого дома уже была заменена новой, легкой и более деловой мебелью. Лишь кое-где тяжелые столы краснели таинственным отливом старого лака <…>». Детально обрисованная интерьерная трансформация, безусловно, является частным отражением исторического перерождения.
Туберкулезный санаторий иносказательно уподобляется месту избавления от болезни пассеизма методом спасительной терапии временем. Главный герой экспозиционных глав (третьеличная фигура которого в дальнейшем трансформируется в «я»-нарратора) попадает на больничную койку не столько вследствие заражения организма инфекционной палочкой, сколько в результате тяжелой схватки с призраками минувшего. «И все-таки это был бой, потому что он чувствовал, что, сдавая свои позиции одну за другой, он не терял уверенности в первоначальной своей правоте. Иначе это была бы сама старость. Нет. Прошлое прошло, и с прошляками нет примирения, даже если они не окажутся пошляками» [1, с. 145]. В философской интерпретации замкнутый локус «Высокие горы» приобретает двойной аллегорический смысл – изолированного места духовного отдыха, а также площадки обозрения неослабевающего единоборства инертной статики и прогрессивного движения. Развивающийся экстенсивно, заявленный конфликт играет ключевую интегративную роль в границах дискретного повествования. «История жанра повести свидетельствует о том, что ее содержание осваивает определенный аспект отношений человека и дей- ствительности, постигаемый как процесс, то есть в становлении и развитии. Поэтому какие бы сдвиги ни происходили в повести, она никогда не становится полифоничной (точнее – полилогичной), ее сложность всегда в конечном итоге сводится к диалогу, к контрастному соотношению всех пластов и элементов художественного мира <…>Это защита жанром повести своих способностей <…>» [3, с. 263].
Значительная часть авторского внимания отведена наблюдению за обитателями санатория. Главы-персоналии, составляющие центральную часть произведения, закономерно разбиваются на две условные тематические группы – посвященные врачам и их пациентам. Медицинская интеллигенция изображается писателем в определенном соответствии канонам производственной прозы. Асеев рисует собирательный образ безукоризненного профессионала, искренне заботящегося о здоровье подопечного: «Спокойствие и уверенность в минуты самых тяжелых испытаний, безграничная преданность делу, которое они делают, работоспособность без ограничения, приветливость и умение обращаться с больным – вот общие черты высокогорского врачебного персонала» [1, с. 148]. Их конкретная реализация находит выражение в романтизированном характере заведующего санаторием, исполняющего партию протагониста-идеолога. Житийно-панегирический образ руководителя больницы – подвижника-гуманиста, посвятившего всю свою жизнь служению высокой надличной цели, а также идеализированные фигуры его помощников воплощают нравственновзыскательные представления писателя о прекрасном человеке нового мира.
Истории пациентов «Высоких гор», напротив, лишены утвердительного пафоса. Автор с объективностью натуралиста исследует «ареал» санатория и регистрирует примечательные особенности поведения соседей по больничной палате. «<…> люди в одиночку малоинтересны. Только в массе, вот хотя бы в таком общежитии, на виду у всех начинают проявляться их подлинная подкожная окраска, их действительные внутренние черты. Хитрить, лицемерить, укрываться долго на людях невозможно, и внутренняя жизненная основа человека проступает довольно быстро в условиях общественного бытия» [1, с. 182]. Применяя композиционный прием частотной кумуляции и выстраивая сюжет по принципу нанизывания портретных эскизов, Асеев метонимически воссоздает пеструю многоликую панораму современного ему социума. Вариативными героями этологического повествования становятся красный командир, столичный актер, юный комсомолец, бывший меньшевик, литейщик завода, записной хулиган, деревенский батрак и другие представители советского общества. Каждый из них в стенах санатория не только подвергается «телесному ремонту», но и проходит «лечебный» курс духовного роста. Для того чтобы характерологически точно запечатлеть окружающую среду, писатель прибегает к оксю-моронно разным художественным средствам: переключает читательское внимание с биографических подробностей на юмористические сценки, трагическую историю слабоумного отцеубийцы перемежает водевильным диалогом кокетничающей пары. Многообразие ракурсов изображения, авторских отступлений, интонационных переходов продуктивно обогащает изобразительную модель.
Созданная в конце первого пореволюционного десятилетия повесть Николая Асеева «Санаторий» демонстрирует жанровую деформацию эпической формы: монтажная компоновка относительно автономных сюжетных эпизодов, маркирующая отсутствие сквозной фабулы и сложное композиционное строение, активизирует центробежные силы и сближает номинально монолитное произведение с циклически организованной конструкцией. Протеическая макроформа повести позволяет писателю емко и выразительно транслировать представления о человеке и мире переходного времени.
Список литературы Жанровое своеобразие повести Н. Асеева «Санаторий»
- Асеев, Н.Н. Собрание сочинений: в 5 т./Н.Н. Асеев. -М.: Изд-во худ. лит., 1964. -Т. 5. -715 с.
- Европейский лирический цикл. Историческое и сравнительное изучение/под ред. М.Н. Дарвина. -М.: РГГУ, 2003. -280 с.
- Лейдерман, Н.Л. Теория жанра/Н.Л. Лейдерман. -Екатеринбург: Институт филологических исследований и образовательных стратегий «Словесник» УрО РАО; Урал. гос. пед. ун-т, 2010. -904 с.
- Литературная энциклопедия терминов и понятий/под ред. Ф.И. Николюкина. -М.: Интелвак, 2001. -1600 стб.
- Мешков, Ю.А. Николай Асеев: творческая индивидуальность и идейно-художественное развитие/Ю.А. Мешков. -Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1981. -272 c.
- Пономарева, Е.В. Жанровый синкретизм малой прозы 1920-х годов/Е.В. Пономарева//Вестник ЮУрГУ. Сер. «Социально-гуманитарные науки». -2005. -Вып. 7 (47). -С. 188-196.
- Скороспелова, Е. Русская советская проза 20-30-х годов: судьбы романа/Е. Скороспелова. -М.: Изд-во МГУ, 1985. -264 с.
- Словарь литературных терминов: в 2 т. -М.-Л.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1925. -Т. 2. -Cтб. 577-1198.
- Теория литературы: учебное пособие: в 3 кн. -М.: ИМПЛИ РАН, 2003. -Кн. 1. -592 с.
- Тузков, С.А. Русская повесть начала XX века. Жанрово-типологический аспект: учеб. пособие/С.А. Тузков. -М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. -304 с.